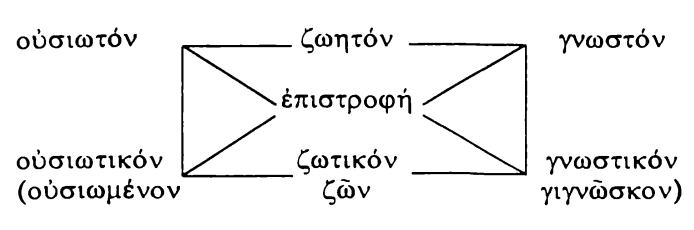Раздел II
ПЕРВАЯ УМОПОСТИГАЕМАЯ ТРИАДА И ОБЪЕДИНЕННОЕ
Первая часть
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛА
И ПЕРВОЙ УМОПОСТИГАЕМОЙ ТРИАДЫ
1. Тезисы Ямвлиха, Прокла и Порфирия
43. Теперь давайте перейдем к рассмотрению того вопроса, предшествуют ли два первых начала1 первой умопостигаемой триаде, которая совершенно неизреченна и несопоставима с триадой как таковой, каковое мнение высказал великий Ямвлих в 28-й книге «Наисовершеннейшей халдейской теологии»2, или первая триада умопостигаемого следует за единой неизреченной причиной, как предпочитало говорить большинство его последователей3, или же мы пойдем дальше даже этой гипотезы и, согласившись с Порфирием, скажем, что единое начало всего является отцом умопостигаемой триады4. Так вот, определение того, какого ответа на данный вопрос требуют божественные оракулы5, пожалуй, следует отложить на другое, более благоприятное время, сейчас же давайте проведем исследование тем способом, который находится в нашем распоряжении и свойствен философии.
Итак, разве несопоставимая причина, единая и общая для всего и совершенно неизреченная, могла бы быть причислена к умопостигаемому и названа отцом единой триады? Ведь эта последняя уже является вершиной сущих вещей, а первая находится за пределами всего; от последней, в частности, зависит отеческий ум6, а первой не соответствует ничто частное; последняя каким-то образом благодаря своему уму является умопостигаемой, а первая совершенно неизреченна. Кроме того, на основании сказанного нами выше говорить об отце триады мы, пожалуй, могли бы или как о чем-то более общем7, или же как о всеедином, однако той гипотезе по достоинству не соответствует ни последнее, ни, конечно же, ничто более общее.
2. Аргументация в пользу мнения Ямвлиха
Пожалуй, лучше следовать Ямвлиху — ведь либо существуют монада и неопределенная диада8 и образующаяся из них триада9, которая, как говорят пифагорейцы, и есть полная умопостигаемая триада, всему же этому будет предшествовать единое, как также говорят эти мужи10; либо имеются предел, беспредельное11 и смешанное из них, и превыше их, согласно Платону, располагается единое, которое, как он говорит, оказывается причиной смешения для смешанного12; либо есть отец, сила и ум, и впереди них идет нечто, выступающее как единый отец, стоящий выше триады:
В космосе светит триада всему, а над нею — монада —
гласит оракул. Если же это имеет место среди космических предметов, то в тем большей мере — в сверхкосмической глубине14, ибо тому, что пребывает в ней, пожалуй, в еще меньшей степени подобает начинаться с множества. Итак, если, как мы говорили, единое по виду предшествует триадическому, а прежде него стоит совершенно неизреченное, то подобное суждение, очевидно, оказывается подходящим.
2.1. Первый аргумент
44. К тому же ведь если всеединое является вторым началом после таинственного и это самое начало есть что-то одно ничуть не более, нежели что-то другое, но оказывается всем на равных основаниях, и возглавляет рассматриваемую триаду скорее всего наличное бытие, в то время как второе в ней — это сила, а третье — ум, то ясно, что на основании существующего положения дел необходимо предпослать триаде предшествующее монаде единое15, с тем чтобы оно присутствовало во всяком числе. Действительно, либо каждое единое число (при том, что, конечно, то единое, о котором мы говорим, не есть монада) является монадой и превыше последней будет стоять единое, которому предшествует таинственное,— но тогда не получится ли так, что монада, будучи третьим началом, окажется первой по отношению к умопостигаемому числу? — либо это единое считается простым, и тогда вновь вслед за ним встанет монада, властвующая над умопостигаемым числом16.
2.2. Второй аргумент
В этом случае тому, кто выступит в защиту Ямвлиха, придется воспользоваться множеством дополнительных рассуждений, например вышеприведенным, предполагающим, что началом, следующим за единым и пребывающим самим собой, является все, и этому-то началу в первую очередь соответствует имя «монада» и сама монада как действительный предмет. Ведь монада связана с пребыванием17, и в таком случае диада есть то, что выходит за свои пределы и возвращается, а триада уже оказывается результатом утверждения множественности. Однако подобное утверждение соответствует особенной природе и будет требовать не того, чтобы пребывающее во всех отношениях выходило за свои пределы, а того, чтобы оно возникало само по себе вслед за всеединым благодаря всего лишь собственной неколебимости. Следовательно, оно вовсе не появилось на свет, и не стоит говорить о его выходе за свои пределы18. Конечно, на самом деле выходит за них уже то, что следует за пребывающим. Действительно, выход за свои пределы начинается с самого первого, а с третьего начинается возвращение. Потому-то первым и оказывается ум.
2.3. Третий аргумент
На основании этих рассуждений давайте, отказавшись от ранее принятых имен, будем говорить, что <всеединому> необходимо существовать вслед за единым началом всего, понятым в утвердительном смысле, при том, что оно каким-то образом вновь оказалось чистым и указывает на то, что оно есть всеединое. Итак, после него необходимо располагаться иному началу, либо еще не являющемуся всеединым, либо пребывающему всем не на равных основаниях, но некоторым частным образом. К тому же и за ним должно следовать иное, своеобразное начало, опускающееся ниже даже этого,— все в отдельности, поскольку по порядку оно есть умопостигаемое начало, и, пожалуй, все — вплоть до умных предметов — оказывается каждым устроением. Впрочем, в высшем все пребывает в неопределенности — либо как объединенное, либо как единое,— так что необходимо придумать в отношении этих начал некое иное различие. Тогда вслед за тем началом, которое есть все в простоте, нужно располагать всеединое, причем не простое, а такое, чтобы была необходимость добавить к нему уже некое своеобразие, и очевидно, что это начало наиважнейшее и более всего родовое; далее в таком случае к третьему началу необходимо присовокуплять иное, третье, своеобразие, более общее и по природе второе. Следовательно, вот это последнее будет образовывать вместе с первым некую антитезу19; осознавая это, я думаю, древние и давали имена: одни — «предел» и «беспредельное», другие — «монада» и «неопределенная диада», сами боги же — «отец» и «сила»20. Итак, если последние два начала, каковы бы они ни были, склоняются к чему-то свойственным для этого способом, значит, то начало, которое ни к чему не склоняется, будучи всеединым, пожалуй, окажется предшествующим им единым и общим и ему, в свою очередь, будет предшествовать таинственное начало.
2.4. Четвертый аргумент
45. Впрочем, то же самое можно было бы представить себе и иначе, опираясь как на свидетельство на низшее. В самом деле, мы, видя среди сущих вещей два противостоящих друг другу ряда21, которые называют лучшим и худшим, а также принадлежащих к видам единого и многого22, от них восходим к двум началам: к единому и к множеству — я имею в виду их как противопоставленные друг другу — или к иным, если бы кто-нибудь захотел высказать свои предположения относительно них. Итак, и то, и другое — своеобразное начало, поскольку оказывается началом своеобразного, и как в таковом в каждом из них присутствует общность, например, в обладающем обликом единого — своеобразие единого, а в имеющем облик многого — след множества. В самом деле, даже в том случае, когда одна последовательность предметов делится на две, прежде этих двух последовательностей выделяются два их начала; если же вот эти две последовательности обладают чем-то общим между собой (ведь они, конечно же, разделены не полностью), то, разумеется, это общее произошло от однородного и единого начала; об этом я говорю с полным основанием, не опираясь на очевидность, но будучи вынуждаем к этому тем, что определено в уме23, а, вернее, в душе. Так вот, коль скоро в этом случае дело обстоит именно так, то и в умопостигаемом необходимо заранее предполагать наличие соответствующих ему причин подобного положения, что можно показать наглядно. Стало быть, от нерасторжимой и однородной причины мы восходим к единой причине, предшествующей всему, с которой, испытывая затруднения относительно ее собственного имени, мы соотнесли всеединое: вместо двух отдельных предметов мы приходим к тем, которые как-то противопоставляются друг другу по аналогии с подлинно противоположными предметами, как хотелось бы их назвать, причем при таком способе их представления у нас не получится двойственности именования, как в случае некой наглядности или аналогии с началами, располагающимися превыше всего.
3. Анализ предшествующих аргументов
Итак, не следует ли в данном случае полагать, что начал, потусторонних умопостигаемой триаде и, вообще говоря, всему существующему, два, как и полагал Ямвлих, причем, насколько мне известно, он был единственным среди всех наших предшественников, кто считал так?24 Или же необходимо последовать за всеми теми, кто был после него?25 Пожалуй, правильнее всего сказать, что только бог мог бы ведать о столь великих вещах; если же и мне нужно высказать свое мнение, то я полагаю, что для настоящего доказательства подобное положение дел небезопасно.
3.1. Критика четвертого аргумента
Действительно, если бы мы совершали восхождение, опираясь на определенные мысли и имена и заранее предполагая, что и в высшем существует что-то, подобное им, мы бы прекрасно и убедительно показали, что единое предшествует пределу и беспредельности,— ибо то и другое есть нечто единое26 и им в таком случае необходимо пребывать среди определенного; что же касается высшего единого, то предположение о существовании в нем предела и беспредельного будет попросту неразумным. В самом деле, почему бы ему — если следовать за теми, кто высказал подобное предположение,— не быть и монадой, и неопределенной диадой, или же отцом и силой? Ведь мы мыслим каждую из этих вещей, и они заслуживают внимания ничуть не менее, нежели беспредельность и предел. Следовательно, при этом вместо двух или трех начал мы будем вести речь об их множестве, причем столь великом, сколь много существует наиболее общих родов определенного, и учтем даже если не все эти роды, то, по крайней мере, те из них, о которых были выдвинуты предположения другими; при этом хуже всего то, что они окажутся определенными. Чем же тогда вершина умопостигаемого будет превосходить роды, различаемые в уме? Скорее всего, она — не предел и не беспредельное, а общность совокупного однородного ряда, причем такую общность необходимо возводить к каждому из начал; определенность и противопоставленность, вероятно, будут присутствовать в этом случае и там, так что подобные начала будут не двумя началами всего, как и не всем, предшествующим всему, а всем только для одного ряда — в большей мере для того или для иного, и, пожалуй, одно начало будет связано с единым, а другое — с множеством. Таким образом, и в этом случае будет нужда в выдвижении причины большей или меньшей меры, как и вообще в таком противопоставлении, которое относится к вещам одного порядка.
Помимо этого, мы будем ставить впереди предела и беспредельности не только единое, но и множество или же все то, что необходимо назвать созидающей множество или разделяющей причиной. В самом деле, каждое из двух есть единое, а вместе они — два, или не-единое27. Стало быть, что же для этой двоицы будет причиной соответствующей ей общности? Ибо этим двум вещам необходимо предпослать нечто, если они на самом деле являются вещами одного порядка, а не одно происходит от другого — как последующее происходит от предшествующего вместе с сопутствующими ему в силу необходимости собственными признаками предшествующего. В самом деле, первое начало в соответствии со своей особенной природой производит на свет самое себя и зачинает появление на свет всего остального первого.
Кроме того, если подобный вывод сделан на основании определенных предметов, а единое будет подлинным единым28, то, привлекая последнее понятие, мы предпошлем его двум: монаде и диаде. Если же оно является определенным, то чем отличается от рода? Действительно, то, что есть все в соответствии с собственным своеобразием — это единое. Стало быть, в таком случае разве единое — это просто все, причем именно в качестве превосходящего все? Если же мы воспользовались подобными представлениями, желая при посредстве понятия единого вычленить всецело наипростейшее и потустороннее всему, благодаря понятию всего избегнуть мельчайшего единого29, определенного как нечто единое, а на основании обоих этих понятий указать на начало, единое и потустороннее целому и всему, так же как и на основании представления обо всем — на стоящее вне его,— то ясно, что начала, следующие за ним, нам необходимо каким-то образом перевести из сферы определенных понятий в сферу всеобщих, в наиболее возможной степени поднимаясь к высшему и при этом, однако, не опираясь на определенность понятий, не довольствуясь ею и не привнося ее в высшее. Так, скажем, бывает, когда некто, желая изобразить простое мышление ума и противопоставляя его мышлению души, пользуется в применении к ним разными примерами: с умным мышлением сопоставляет зрительное обращение, с рассудочным — слуховое восприятие30, поскольку далее необходимо перейти от таких примеров к более истинным мыслям о соответствующих предметах. Этот человек, пожалуй, призвал бы к ответу того, кто будет говорить, что подобно тому, как прежде зрения и слуха существует некое ощущение вообще, так и прежде умного и душевного мышления имеется некая общность сущностного знания, не принимая во внимание того, что душевное происходит от умного как изображение от своего образца31. В самом деле, точно так же и те, кто злоупотребляет определенными мыслями и предметами при выявлении того, что связано со всецелыми и неопределенными началами, не могли бы, пожалуй, по справедливости потребовать для себя того, чтобы те рассуждения, которые связаны с названным, возвели бы их к этим началам, например потому, что такие мысли и предметы множественны, и соответствующих начал в них множество, а не просто два или три, и потому, что они противоречат друг другу и приводят к тому выводу, что высшие начала также противоположны друг другу, и потому, что единое в них существует прежде предела и беспредельности32. По этой самой причине двум началам необходимо предпосылать единое суждение о едином, поскольку само то, что для указания на два начала разные люди пользуются различными именами, при том, что каждый из них говорит прекрасно, но при любом другом взгляде на проблему называется новое имя,— так вот, это-то пусть и послужит нам подтверждением того, что эти имена не следует приписывать непосредственно высшим началам, но что от них с помощью аналогии необходимо восходить к началам самим по себе.
46. Итак, подобно тому как монада, предел, отец, наличное бытие, если угодно, эфир среди определенного являются разными вещами, поскольку эти вещи обладают собственными именами, а в применении к высшему единому все они оказываются парадигмами или символами единой природы,— так и название «единое», пусть даже оно является иным по сравнению с каждой из перечисленных вещей, в применении к высшему становится знаком той же самой природы. Точно так же и «многое» по аналогии пусть будет обозначением иной природы, расположенной вслед за вышеназванной; на нее указывают также слова «беспредельное», «неопределенная диада», «сила», «хаос» и все те иные, которые можно было бы придумать для более легкого приближения к ней в знании.
Что же, стало быть, мог бы сказать кто-нибудь, единое начало не Должно предшествовать этим двум, поскольку они противостоят друг Другу, а оно превышает всякую противоположность? Но прежде всего — они не противостоят друг другу как вещи одного и того же порядка, например предел и беспредельное, ибо подобная антитеза относится на счет логически противопоставленных друг другу предметов33; напротив, стало быть, если это действительно так, то они соотносятся друг с другом подобно тому, как причина соотносится с ею обусловленным, и так же, как умопостигаемый космос является причиной умного, а всеобщий — причиной Всего. Далее, если мы согласимся с тем, что существует единое начало, значит оно — это то, которое, проведя вышеописанное исследование, мы обнаружили как таинственное; однако Пифагор восславил как единое34 то единое начало, которое мы сочли вторым, назвав его всеединым и сказав, что вслед за ним существуют монада и неопределенная диада. Кроме того, я скажу, что те, кто желает наглядно представить это потустороннее всему начало, указывают то на один, то на другой его признак, а вернее, в согласии с высшей истиной, и не на признак, а на условное обозначение35: одни говорят о нем как о простом едином36, другие — как о простом боге37, третьи — как о Хроносе38, Кайросе39 или благе40. Мы же полагаем началом неизреченное, поскольку оно-то и есть начало; пожалуй, более всего это неизреченное воспели египтяне,— ибо они дали ему наименование «неведомая тьма», трижды знаменуя его41. Кроме того, точно так же и Пифагор пожелал приписать ему некое имя, преследуя цели преподавания философии, потому что вслед за ним он расположил монаду, говоря, что она является символом высшего начала, но никак не собственным его признаком, поскольку монада на самом деле в каким-то смысле уже оказывается числом, а число относится к определенному и не располагается в неопределенной полноте сущих вещей42. Платон же пользуется именами в какой-то внутренне противоречивой манере: в «Софисте» он предпосылает единое всему43, в «Государстве» говорит, что оно [не]познаваемо44, а в «Пармениде» — в первой гипотезе — казалось бы, вообще считает единое непричастным бытию45. В самом деле, он, похоже, отрицает то, что единое существует; однако это не так: скорее, при посредстве всяческого отрицания и всяческого познавательного отвержения, он указывает на таинственное; впрочем, такие вопросы лучше исследовать в другой раз. Тем не менее во второй гипотезе вполне отчетливо — в той мере, в какой это было возможно,— высказывается предположение о том едином, которое мы сейчас сочли именно всеединым — в катафатическом смысле, и вот это-то единое и оказывается наипростейшим из всего46. То же единое, которое Пифагор полагал предшествующим монаде, а Платон рассматривал в первой гипотезе, есть символ неизреченного начала, так что каждый из них двоих назвал его по-своему.
3.2. Критика третьего аргумента
Стало быть, если бы кто-нибудь сказал, что всеединое — это «все единое» на равных основаниях, а то начало, которое предшествует двум, есть скорее само по себе существующее, нежели производящее на свет или имеющее облик предела, подобно тому как второе есть скорее противоположное, и все равно и то, и другое оказывается «всем единым»,— так вот, пусть говорящий это [1] имеет в виду, что все еще остается в рамках определенного, поскольку в данном случае предполагает наличие большего и меньшего и определяет для этих начал, как для различающихся между собой, некое своеобразие, например связанное с пребыванием собой и выходом за свои пределы или же опирающееся на наличное бытие и силу; поскольку все это высказывается лишь ради наглядности, такой человек мог бы быть, по справедливости, прощен, однако, говоря это, он сам неизбежно поверг бы себя в полное замешательство. Ведь в данном случае будет проявляться основание умопостигаемого, оказывающееся в равной мере всем, даже если оно и выказывает в себе уже некоторую определенность47. Пусть он также знает, [2] что таинственное, как совершенно неизреченное, мы полагаем в равной мере всем, предшествующим всему.
47. [3] Далее, в-третьих, так называемое всеединое выступает как само единое. В самом деле, все общее в каждом начале присоединяется к нему с целью раскрытия его всеобщности. Стало быть, оно зачинает единый и однородный ряд вещей, подобно тому как множество — противоположный, ибо множество, но никак не эйдос, есть в свою очередь начало, и это самое его своеобразие не есть нечто единое; впрочем, это начало является всем в качестве множества, так что всеединое относится скорее к устойчивой и однообразной природе сущих вещей.
3.3. Критика первого аргумента
Однако пусть тот, кто делает вывод об отличии единого от монады, припомнит вышесказанное — то, что ни монады, ни единого в высшем, в согласии с истиной, вовсе даже и нет, так что в отношении этого высшего нам не следует проводить их различение между собой; и то и Другое мы можем возвести к одной и той же гипотезе и наглядному представлению.
3.4. Критика второго аргумента
Тот же, кто относит выход за свои пределы на счет второго начала, а пребывание полагает неопределенным предшествованием как ему, так и названному,— так вот, и он опирается на определенность понятий, противопоставляя в высшем пребывание выходу за свои пределы и, конечно же, не рассматривая его в простоте — при помощи совершенного способа наглядного представления. Впрочем, и он будет вторить нам, поскольку мы называем выходящим за свои пределы второе начало, а первое — устойчивым и пребывающим, его-то мы и именуем всееди-ным, происходящим от неизреченного не в его выходе за свои пределы, а в пребывании. В самом деле, то — неизреченное, а возникшее единое уже не будет неизреченным для нас. Тем не менее и оно не появилось на свет, ибо всякий выход за свои пределы связан с диадой, единое же стоит превыше любого выхода за свои пределы,— ведь это самое единое как таковое при порождении непричастного множеству потомства остается нерасчлененным. По крайней мере, расторжение является результатом множества, относящимся к тому, в дополнение к чему оно будет появляться, и, стало быть, то единое, которое является единым в полной мере, вовсе не допускает выхода за свои пределы. Во всяком случае, если оно как единое и стоит ниже таинственного, то его отпадение от последнего — отнюдь не выход за свои пределы, как, впрочем, скорее всего — и не отпадение как таковое, поскольку единое есть то, что объединяет все остальные вещи как между собой, так и с их собственными причинами, и все будет единым в той мере, в какой оно основывается на едином, и, стало быть, единое никак не отделило себя от неизреченного48. Потому-то единое, когда оно служит предметом предположений, представляется неизреченно сущим.
Будучи таковым, оно никоим образом не выходит за свои пределы, как, пожалуй, и не пребывает, ибо пребывающее есть иное по сравнению с единым; если же «пребывающее» — это лишь наглядное обозначение для единого, то пусть оно будет скорее таким, нежели иным.
Впрочем, пребывающее, как говорит <Прокл>, располагается или в самом себе — и тогда единое будет обладать некой двойственностью, или в предшествующем себе — и тогда в таинственном будет нечто изреченное, ибо пребывающее есть каким-то образом изреченное, или же в следующем за ним — что наименее правдоподобно: подобное расположение присуще даже не всем душам. Однако мы, со своей стороны, скажем, что то самое единое — отнюдь не пребывающее <вообще>, но пребывающее само по себе лишь по аналогии, так как оно служит причиной пребывания для другого. Следовательно, если бы действительно утверждалось, что оно не остается самим собой, то я позволил бы себе сказать, что до пребывающего в ином или в самом себе имеется то, что не только не предоставляет от себя бытия собой, но и не существует в согласии с ним; значит, подобно тому как о нем говорится «единое», «предел», «наличное бытие» и «эфир», и «пребывающим» оно будет именоваться лишь в силу аналогии.
4. Дамаский высказывает собственное отношение к мнению Ямвлиха
А если бы кто-нибудь потребовал, чтобы при выходе за свои пределы два противостоящих друг другу начала появлялись бы из одного в его склонении к тому или к другому <ряду вещей> или же чтобы разобщенность низших сущих предметов с одной, еще единоприродной им монадой, была бы отнесена на их счет, раз они существуют как два вслед за одним и вследствие одного,— то в таком случае он проводил бы логическое противопоставление, а антитез мы в данном случае не допускаем. И если бы он полагал превышающее все начало единым, а все следующее за ним и само объемлющее иным,— причем не в том смысле, в каком все есть таинственное, а в том, что единое начало каким-то образом вручает самое себя тому, что следует за ним и стоит ниже уже этого другого начала,— то мы согласимся на наличие и единого таинственного начала, и следующего за ним однородного, и третьего, множественного, причем основывающегося на первых двух, но не в том смысле, что оно противостоит им, как множество противостоит единому среди определенного, а, скорее, как диада — монаде, или сила — наличному бытию, или же, пожалуй, в согласии с истиной, даже и не так, поскольку сила есть некая принадлежность самой сущности, а диада полностью отторгнута от монады49,— но так, как целостный второй космос противостоит целостному первому, как космос разделенный противостоит объединенному, за исключением разве лишь того, что и то, и другое есть всеединое, но одно — как единое, а другое — как множество.
Тщательным разбором того, как это может быть, мы займемся тотчас после этого рассуждения, а сейчас относительно последнего предположения Ямвлиха50 мы скажем следующее: мы также начинаем с единого начала всего, а вслед за ним располагаем, основываясь на аналогии, два, поскольку из единой совместной природы выделяются Два ряда вещей, причем не как логически разделенные, а один — как еще не желающий выйти за пределы таинственного, но, скорее, поглощающийся им, и другой — как появляющийся на свет и уже определенный по своему виду на основании всего лишь собственного ослабления, поскольку в нем обретает сущность выход за свои пределы. Потому-то среди всего и имеется причина некоего разделения — словно иное начало для соответствующего природе сосуществования со своими собственным причинами. Таким образом, оба ряда вещей относятся ко всему, но один обусловливает срастание всего между собой как в ширину, так и в глубину (и потому в целях его наглядного представления именуется единым51), а другой стоит впереди любого разделения. Стало быть, пусть никто не говорит, будто одно начало возглавляет один ряд вещей, а другое — другой; напротив, они вместе стоят впереди их обоих, как и предшествующего тому и другому, некоторым образом соединенному из них обоих, и одно выступает для такого совместного ряда как отеческое, а другое — как безыскусно-материнское52.
5. Формулировка собственного подхода Дамаския, соответствующего представлениям Сириана и Прокла
Если же нужно, отбросив слова защиты, объявить наше мнение само по себе,— поскольку ведь другие философы настаивают на том, что имеется лишь одно предшествующее всему начало, а вслед за ним идут два: предел и беспредельное, или такие, какими кто-нибудь еще пожелал бы показать и обозначить их,— рассуждение необходимо начать примерно вот с чего.
5.1. Триада и единое начало
48. Объединенное есть одно, а единое — другое53, что показывает Платон и чего к тому же требует здравый смысл (κοινή έννοια), ибо подобное объединенное — это как бы единое, обладающее свойствами54. Само же по себе то, что является всего лишь единым, находится превыше объединенного; впрочем, одно не отделено от другого полностью: объединенное причастно единому. Следовательно, между ними явно существует некое состояние, словно связка для этих двух вершин,— вот их последовательность: объединенное, это состояние, единое; превыше единого будет находиться неизреченное как единое начало. Так называемые два начала есть единое и данное состояние, которое является силой,— ибо она есть первое среди всяческих состояний. Третье же — это ум и то, что мы воспеваем как сущее. Впрочем, это уже было написано Сирианом и Проклом в их комментариях к «Пармениду»55. В самом деле, суждение «единое есть», предложенное в начале второй гипотезы, подразумевает триаду. Построить эту гипотезу ты мог бы, пожалуй, и более естественным способом — на основании природы объединенного. В самом деле, объединенное есть не только единое (ибо тогда оно будет тем же самым, что и изначальное единое), но еще и не-единое. Впрочем, оно не является и только не-единым, так как в этом случае оно не могло бы быть и объединенным, которое, собственно, и знаменует то, что единое обладает свойствами. Итак, поскольку объединенное есть не-единое, прежде него стоит то, что пребывает единым в чистом виде, а поскольку оно — единое, а вовсе не чистое не-единое, причем единое, обладающее свойствами,— так вот, по этой самой причине оно по природе есть объединенное, ибо его своеобразие наличествует у него как у составного, если есть необходимость это упоминать. Таким образом, в данном случае по этой причине ему будет предшествовать чистое не-единое, называемое таковым благодаря собственной особенной ипостаси, и это, конечно же, есть не ничто (ибо последнее лишено ипостаси), а некая природа, явившая не-единое среди сущих вещей, из-за которой даже первое сущее не будет единым, подобно тому как благодаря единому оно оказывается единым, а вследствие себя самого — объединенным. Это самое не-единое одни будут называть беспредельным, другие — хаосом, третьи — неопределенной диадой, а кое-кто, пожалуй, мог бы назвать и множеством; сущее потому и именуется смешанным, что объединенное состоит из единого и не-единого; впрочем, речь об этом пойдет ниже.
Сейчас же давайте вновь скажем, что сущее есть или единое, или многое, или нечто, составленное из них; так вот, единым оно не является, ибо понятие сущего не тождественно понятию единого и, конечно, в связи с таким же отсутствием тождества понятий оно не есть и многое. Потому о сущем и о сущих вещах мы говорим как о едином и многом. Если же сущее составное, то, разумеется, не в своем наличном бытии, ибо единое и многое не тождественны и сущее не может быть в наличном бытии таким единым, каковое в действительности сосуществует с многим, и таким многим, которое обладает общей с единым сущностью; составное — это как бы некая стихия, возникшая одновременно из того и из другого в силу сопричастности им. Значит, ему предшествует как единое, так и многое. И если бы единое было иным пределу, а многое — иным беспредельному, то начал оказалось бы больше, чем нам хотелось бы. Если же отождествить беспредельное и множество, то придется отождествить также предел и единое — с учетом наглядного представления неопределенного через определенное.
Далее, подобно тому как предел, похоже, противоположен беспредельному, так, конечно же, и единое противоположно множеству. Если же единое предшествует пределу, то множество предшествует беспредельному; и если единое стоит впереди монады, то множество стоит впереди неопределенной диады; и если одно предшествует умопостигаемому отцу, то другое — силе. Следовательно, первое среди начал есть пара: единое и многое, а остальные либо все вместе обнаруживают единую сущность, либо располагаются вслед за ней; и даже если сущему предшествует множество начал, подлинны лишь два из них, хотя бы этого и не желали те, кто говорит о них.
Кроме того, единое, которое есть единое, в соответствии со своей природой никоим образом не выходит за свои пределы, ибо ни разделяться, ни разделять природе единого не свойственно,— если, конечно, разделение противоположно объединению. Действительно, если результат единого — объединение, то результатом множества скорее всего будет полное разделение; следовательно, они являются двумя началами и в таком случае будут возглавлять все, будучи противоположными друг другу; при этом начало единого, разумеется, вовсе не предшествует любой антитезе среди определенных понятий; его не существует в наглядном виде и среди неопределенного.
Далее, все то, что действует и претерпевает первым, становится для всего остального причиной соответствующего состояния: первое прекрасное является причиной того, что любая прекрасная вещь прекрасна, и удостоенное красоты первым — того, что все остальное удостаивается красоты, причем то же самое рассуждение имеет силу в применении ко всем подобным предметам. Стало быть, если нечто первым разделяет или разделяется, оно будет для всего остального причиной того и другого, и первое множество и первое делающееся многим — причина бытия многого и превращения во многое; в применении же к единому имеют силу иные, но сходные суждения. Следовательно, если бы каждая вещь делала саму себя тем, что она есть, начиная собственное действие с самой себя, так что и претерпевание она испытывала бы от самой себя, то искомый вид в каждом случае был бы одним — первым действующим и претерпевающим. А если бы одно было действующим, а другое — претерпевающим от этого действующего, то имелись бы два разделенных первых: для действия и для претерпевания, как, например, в том случае, когда первое прекрасное действует, а удостаивающееся красоты первым претерпевает. То рассуждение, которое мы только что провели, истинно и в том и в другом случае; следовательно, если то, что оказывается всего лишь единым, по природе не способно к выходу за свои пределы, то появление на свет возглавит многое как первое, что появляется на свет; например, начало всякому выходу за свои пределы у пифагорейцев полагает диада, а в халдейской гипотезе — сила56, ибо она каким-то образом первой отказывается от собственного наличного бытия. А ведь что могло бы быть причиной какого бы то ни было разделения? Разумеется, множество. Ибо что значит «разделяться»? Конечно, превращаться из единого во многое.
На основании достигнутых таким образом соглашений, с одной стороны, необходимо сделать вывод о том, что единое не выходит за свои пределы, так как если бы это происходило, то оно начальствовало бы над всяким выходом за свои пределы; тогда мы стали бы испытывать нужду в предшествующем единому начале, не выходящем за свои пределы, а остающемся собой,— и так до бесконечности; пожалуй, в этом случае тем, что хотелось бы назвать причиной всякого выхода за свои пределы, будет множество. С другой стороны, поскольку множество, являющее разделение в себе самом, скорее всего начинается с разделения,— будь то как дарующее себе множественность и разделяющее себя самое, будь то как всего лишь множество и начало разделения,— значит, оно делает множественным и разделяет все остальное. Действительно, какое бы из двух суждений ни приводилось, в любом случае над выходом за свои пределы будет начальствовать многое; следовательно, все те, кто ведет речь о двух началах, стремятся к тому, чтобы оно было именно вторым началом, с тем чтобы первым поставить единое,— ибо множеству противостоит единое. Вот какова пара общеизвестных умопостигаемых начал, следующих за единым началом и положенных в основу всего.
Таким образом, если бы предполагалось наличие единого начала, предшествующего умопостигаемой триаде, то это, конечно же, было бы само всеединое. Ведь оно является также и таинственным, как об этом говорит Платон в «Филебе», когда предполагает, что два начала — это предел и беспредельное, а единое предшествует им и неизреченным образом привходит в их смешение; оно неизреченно еще и в том отношении, что познается при посредстве располагающихся в его преддверии трех монад57. Впрочем, Пифагор также полагал, что единое предшествует так называемым монаде и неопределенной диаде; так считают и все те философы, которые ставят единое впереди двух начал. Однако если бы кто-нибудь, вновь вступив в борьбу с мнениями этих блаженных мужей, говорил, что два начала противоположны друг другу, то и у него возникла бы необходимость считать, что прежде всякой антитезы имеется единое, и то же самое тем более произошло бы, если бы он привлек в свидетели то, на что указывает здравый смысл, как и то изречение Гомера, которое одобряет Аристотель: в нем утверждается, что многовластие не является благом, и выдвигается требование, чтобы надо всем стоял один царь58,— ибо в соответствии с этим суждением возникнет необходимость в том, чтобы само подлинное единое властвовало надо всеми предметами. Потому-то Платон во многих местах и воздает должное этому самому первому началу. В самом деле, в «Софисте» он предпосылает единое сущим вещам, а в «Пармениде», в первой гипотезе, опровергнув все суждения в отношении его и отнеся бытие ко всему, оставляет только само единое, свободное от другого. Итак, если кто-нибудь, приняв во внимание сказанное и ему подобное и одновременно отказавшись от мнения Ямвлиха, предположит, будто единое есть единое начало, предшествующее двум, мы воспротивимся такому предположению, приведя в качестве основания для этого все те ранее высказанные суждения, в которых многое противопоставлялось единому, а беспредельное и неопределенная диада оказывались сплоченными со многим в тождестве, так что монада и предел сходились в тождестве с единым, поскольку это самое единое в данном случае представлялось всего лишь одним началом из двух. Разумеется, второе начало в каком-то смысле оказывается первопричиной выхода за свои пределы, а единое являет некое постоянство среди сущих вещей, поскольку оно по природе не выходит за свои пределы и противостоит разделению59, без которого выход за свои пределы не мог бы иметь места, и верны любые другие выводы в отношении этой гипотезы, которые можно было бы сделать на основании вышесказанного.
49. В дополнение к этому необходимо в первую очередь сказать, что единое не полностью неизреченно, но лишь невыразимо при посредстве слов: его нельзя описать путем утверждения или отрицания, а можно, пожалуй, только просто помыслить, причем мыслью, никоим образом не связанной ни с логическим, ни с умным видом знания (поскольку всякая мысль подобного рода является эйдетической и составной)60, так же как и не сущностным его видом (ибо и сущность не есть что-то подлинно простое), но имеющей отношение только к единичному знанию, причем во цвете подобного упования. Нам же, а скорее — блаженным зрителям61, оно позволяет лишь строить предположения относительно себя, притом исключительно в родовых муках; и это относится ко всему, что было ранее о нем сказано, поскольку ведь и для единичного знания оно не является полностью познаваемым, так как то, что есть только единое и ничто другое,— это вовсе не познаваемое: если бы с ним было соотнесено познаваемое, то оно не было бы уже единым как таковым. Впрочем, подобное тщательное его очищение вплотную приближает к его собственной природе, но вблизи него как бы стирается знание о нем, поскольку, приблизившись к нему, это знание словно лишается зрения и вместо знания становится единением62; однако об этом было сказано и выше. Ясно, что при всем том единое, вероятно, не могло бы быть таинственным началом всего, ибо, в свою очередь, последнее не обладает положением63, и то, что никоим образом не может быть соотнесено со всем, единое же, даже если оно есть все, является всем вследствие единого, таковым и почитается и оказывается как бы вершиной всего.
Кроме того, если бы кто-нибудь пожелал хоть как-то назвать то, что по своей природе не имеет никакого имени, или же высказаться относительно совершенно неизреченного, или обозначить то, что не может быть обозначено, ничто не препятствовало бы тому, чтобы приписать единому и таинственному началу наилучшие имена и мысли, словно некие наисвященнейшие символы, и даже назвать его единым, как подсказывает очевидный здравый смысл, и придать единому достоинство начала всего64. Однако, памятуя о точности, необходимо иметь в виду, что соответствующее имя — не самое подходящее для него: оно является собственным именем старейшего из двух начал, а если в самом деле и применяется к нему, то, как много раз было сказано, лишь в целях его наглядного представления. Правильнее всего — сказать, что к нему как к подлинно единому началу обращается простой здравый смысл всех людей, коль скоро он замечает и это начало, однако так, что не выявляет его достоинства как всеобщего начала; впрочем, он и не замечает таинственного, поскольку на самом деле не сооответствует никаким нашим понятиям и не имеет отношения к мышлению вообще. Если же для противопоставления единого многому вновь потребуется единое прежде вот этого единого, то, пожалуй, мы допустим наличие этого противопоставления в применении не к высшему, но лишь к низшему, располагающемуся где-то среди определенного, вследствие чего мы и делаем по поводу тех начал вывод о том, что их противопоставление всего лишь кажущееся65.
5.2, Противопоставление первоначал
50. Впрочем, давайте уже скажем что-нибудь и об этом противопоставлении. В самом деле, разве не должны и мы вслед почти за всеми философами и за некоторыми теологами66, похоже, полагающими, что непосредственно за воспеваемым ими единым началом идет диада, ради точности сделать такой же вывод, раз уж мы сейчас пытаемся говорить в точности? А, собственно, почему бы и нет? Кто-нибудь мог бы, пожалуй, сказать: «Ибо что еще могло бы появиться на свет вслед за единым? Разумеется, диада. Диада следует за монадой, и точно таким же путем на свет появляются все остальные числа»67. Действительно, Орфеи также ставил вслед за Хроносом Эфир и Хаос68, а боги, как единодушно сообщают нам все теологии, появляются вслед за единым богом, отцом и силой только как диада.
Далее, этого требует само рассуждение, поскольку сущее, как говорят Платон в «Филебе» и Филолай в книге «О природе»69, возникает из предела и беспредельного и, поскольку вообще понятия единого и сущего являются иными по отношению друг к другу, то, пожалуй, сущее не могло бы быть тем же самым, что и единое. Впрочем, оно, конечно же, причастно единому и, стало быть, заключает в себе также нечто не-единое; последнее же, как было сказано, это или ничто, что неверно, или многое. И нет никакого препятствия для того, чтобы, если кому-нибудь этого захочется, считать это многое всего лишь двумя вещами — пределом и беспредельным, как и большим их числом, или же всеми теми родами сущего, которые изначально присутствуют в виде семян, если только кто-нибудь пожелает предположить, что все в своей простоте — это как бы число, заключенное в монаде. Итак, сущее есть многое70; последнее же отчасти имеет отношение к пределу, а отчасти — к беспредельности.
Следовательно, этот некто71, пожалуй, утверждает, что необходимо заранее предполагать наличие причин как для единого сущего, так и для заключенной в нем двойственной природы стихий; значит, среди начал имеется заведомо обособленная диада — причина названной, так же как и предшествующее диаде единое, которое Ямвлих считал идущей впереди того и другого причиной сущего единого72. Ведь, вообще говоря, то же самое происходит и тогда, когда мы различаем все сущие вещи как объединенные и как каким-то образом разделенные, даже если они противостоят друг другу как причина и обусловленное причиной,— ибо от двух рядов вещей и от лежащего в данном случае в их основе противопоставления как некоего единого целого нам необходимо совершить восхождение к двум совершенным началам, превыше которых располагается единая вершина, оказывающаяся причиной их совокупной природы, так же как и собственно двух начал и произрастающих от них в двойственности любых двух последовательностей предметов, в любом противопоставлении противоположных друг другу и обособленных друг от друга. Что-то похожее говорит и тот, кто считает начало Ямвлиха промежуточным между двумя началами и совершенно неизреченным73. А еще он прибавлял рассуждение о необходимости причастности сущего этим двум началам. Допустим, единичное сущее будет предшествовать тому, что уже имеет вид сущности,— тогда в нем присутствуют некие сопричастности как первые стихии сущего в качестве смешанного, каковы предел и беспредельное. Таким образом, многие суждения по своей сути оказываются одним и тем же: сущее есть объединенное и стихии повсюду противостоят друг другу, а значит, их начала обладают неким противостоянием, так что сущее — это причина противопоставления. В самом деле, данное рассуждение требует согласия одновременно и с гипотезой Ямвлиха, и с некоторым противоположением двух начал, коль скоро, пройдя обоими этими путями, можно будет сказать, что предшествующая двум началам генада является всем вместе, предшествующим всему, причем всем на равных основаниях, и что первое из двух начал и само оказывается всем — как чем-то, скорее имеющим вид предела, и что второе равным образом есть все, но как нечто по преимуществу беспредельное.
Далее, если провести то же самое исследование в применении к низшему, то в то время как все существующие предметы являются и объединенными, и разделенными, одно начало возглавляет их как объединенные, другое — как разделенные, а предшествующее им третье — как попросту все. Впрочем, пожалуй, лучше сказать так: одно начало соответствует им как пребывающим, и это то, которое имеет облик предела, другое — как возвращающимся, и это то третье начало, которое предшестввует <таким предметам> как сущему; прежде них необходимо иметься общей для всех вещей, высшей, единой и просто существующей вершине всего, причем последнего — не в качестве того, которое наличествует каким-то определенным образом, а в качестве всего лишь наличествующего74. В самом деле, если кто-нибудь, со своей стороны, скажет, что эти два или три — вместе с третьим — начала имеются у всего, то чем они будут отличаться друг от друга, оставаясь в равной степени всем? Если же они будут различаться в силу большей или меньшей своей значимости, то какова будет для них дополнительная мера этой самой большей или меньшей значимости,— ведь в данном случае нет даже никакого намека на познавательное различие?75 И, вообще, большая или меньшая степень наблюдается в связи с единым своеобразием, а у единого своеобразия существует и свое единое начало, но не множество их76.
51. Так вот, в ответ на эти и вообще на все рассуждения такого рода подобает сказать, что названные понятия переносятся на предшествующие всему неопределенные начала с определенных вещей,— ведь, как можно было бы заметить, таковы понятия единого и всего. Однако мы, проводя, насколько это возможно, очищение, возводим наши мысли от определенного к неопределенному, говоря о том, что одновременно есть единое и многое, отсекая от единого частность благодаря прибавлению к нему слова «все» и уничтожая во всем составленнсть при посредстве приложения к нему простоты единого. Итак, в применении к высшему противопоставление всего каким-либо образом противоположного, относится ли оно к вещам одного порядка или же к причинствующим и причинно обусловленным, необходимо рассматривать иным способом. Действительно, среди всего существует нечто общее как более всего родовое, предшествующее делению, так что прежде как бы то ни было противопоставленных вещей, представленных в виде двух рядов, имеются две причины и они как бы противостоят друг другу. Но в таком случае необходимо, чтобы прежде двух противоположных причин присутствовала бы и единая причина как их сращения, так и совокупного ряда, образующегося из сосуществующих вплоть до самых последних предметов и в каждом случае возникающих двух противоположных рядов вещей; и не было бы, пожалуй, никакого чуда в том, чтобы этот общий ряд был лучше тех двух, поскольку законом для них является то, что целое предшествует частям, а объединенное — разделенному. В самом деле, и единое начало предшествует двум, и оно-то и есть то простое единое, которое Ямвлих полагает промежуточным между двумя началами и потому совершенно таинственным77; те же два начала — это, скажем, предел и беспредельное или, если угодно, единое и многое, причем единое в данном случае оказывается противоположным многому, а не непричастным противопоставлению и не предшествующим обоим его членам.
Если кто-нибудь действительно делает именно такие утверждения, представляя два начала противоположными друг другу, а впереди них располагая то, которое связано с единым, ему необходимо в ответ на это заметить прежде всего, что тезис о промежуточном ряде он выдвигает в самую последнюю очередь, в то время как он-то и есть именно то, что выступает как причина целостности. Действительно, если единое предшествует двум потому, что они связаны по природе, то и оно по природе будет связано с ними, так что окажется не просто единым, а неким сращением двух, пусть даже и предшествующим им; следовательно, прежде него будет существовать простое единое78. Если простое единое в каждом случае причинствует для вот этого единого, то оно, разумеется, не является причиной сращения соответствующих двух; если же сращение двух начал между собой, подразумевающее участие в едином, и есть начало совокупного объединенного ряда, то его как единое нужно поставить впереди двух начал, соотнесенных с природным родством, а прежде него расположить простое единое; от него же в свой черед происходят два начала. Таким образом, и в том и в другом случае появятся два начала, промежуточные между таинственным и так называемыми двумя началами, а вовсе не одно, как у Ямвлиха.
Впрочем, не получается и так, что одно дело — это простота первого, а другое — ныне рассматриваемое в чистоте сращение,— напротив, они тождественны, ибо это-то и есть единая вершина двойственного противопоставления. Итак, скажу я, вот какова единая природа, связующая в тождестве парный выход за свои пределы. Если даже некая раздельность единого выхода за свои пределы, постигнутая в предшествующем едином и неделимом как единая и несоставная природа, не возводит нас к простому единому, то какая нужда строить предположения относительно монады, возглавляющей двойственный совокупный ряд вещей? Она-то, разумеется, не будет наипростейшим единым. И какой вывод можно было бы сделать? Разве станем мы утверждать, что все — в едином? Конечно же, оно — только единое. В таком случае пусть речь идет лишь о сращении двух рядов вещей, в которых воплощено или которым подчинено все остальное79.
5.3. Противоречие и анализ
52. Однако, во-первых, во всецелом совершенстве лучше восходить к единой и наипростейшей среди всего простоте единого, опираясь на все, а не на одно лишь противопоставление, пусть даже все и заключено в нем. В самом деле, все показывает себя в этом противопоставлении в виде только двух своих характерных черт из множества; совершенно необходимо же возвыситься в простоте от всего к единой причине всего.
52а. Во-вторых, необходимо отметить, что это самое родовое противопоставление заключает в себе далеко не все. Ведь оно не охватывает выхода за свои пределы, общего по природе и включающего в себя две противоположности, который, вообще говоря, всегда предшествует любой раздельности, поскольку всякое противопоставление есть раздельность; прежде же любой раздельности наблюдается неделимое, которое является не единым, а как бы истоком того, что из него выделяется,— так же как монада есть исток всякого числа, иной по сравнению с простым единым.
Далее, [Ямвлих] говорит (пусть это нас и не убеждает), что одно из начал — это как бы монада, другое — как бы диада, третье же — предшествующее им обоим единое; именно это доказывает Пифагор80. Говоря «единое», последний скорее всего указывает на таинственное начало, не будучи в состоянии обозначить его [для других] как-то иначе; мы же сейчас отвергаем само название «единое», ниспровергая тем самым и этот его тезис, поскольку оно, будучи почтено, если позволено так выразиться, всего лишь названием «таинственное», покажется нам более священным. По крайней мере, именно в таком смысле египтяне называли его непознаваемой тьмой, ради предзнаменования трижды обращаясь так к этому началу, именуя его еще и превышающей всякое мышление тьмой, а также воспевая как великое таинство и представляя более всего в трагически возвышенном виде наши страсти, а тем самым пытаясь указать на него81.
Впрочем, на самом деле прежде монады, диады и любого числа вообще существует многое, как это показывает <Платон> в «Пармениде»82, с тем чтобы от них, старейших, совершить восхождение к первым началам; при этом ясно, что он восходит к ним от единого, а от многого переходит к причине множества. Необходимо проследить, каким путем мы совершили вот это восхождение ко всего лишь двум началам, предшествующим монаде и диаде; значит, давайте вновь не торопясь проделаем этот путь к ним от монады и диады, так же как и от единого — к предшествующему им единому началу; действительно, единое получило свое определение при противопоставлении многому и такому противопоставлению предшествует антитеза вообще. Однако давайте я сделаю это в рассуждении, выходящем за рамки настоящего исследования83.
52б. Помимо перечисленного, в-третьих, как было сказано сначала84, необходимо отметить, что при каждом противопоставлении мы подвергаемся опасности устремить в бесконечность эти два потока выхода за свои пределы. Ведь само сравнение предшествующего единого с диадой потоков оказывается противопоставлением, и возникнет необходимость измыслить предшествующее ему другое и пожалуй, предположить наличие другого, идущего впереди него85.
В-четвертых, любое разделение является потомком множества или, разумеется, дарующей качество множественности диады. Следовательно, имея дело со всяким противопоставлением, как бы в действительности оно ни называлось, мы будем возводить его к тому единому началу, которое дарует качество множественности и которое властвует над любым делением. Вершина его — то, что, как мы говорим, является единым,— на деле оказывается не подлинным единым, но как бы монадой или сращением противоположностей, поскольку оно есть результат действия монады, ориентирующегося на простое единое, и, конечно, стремится быть пределом и истинным всеединым. В самом деле, противопоставление есть результат начала, связанного с беспредельным, а его сращение оказывается потомком того, которое соответствует пределу, и вот это-то сращение мы называем совокупным рядом вещей, основанным на пределе, так же как другой — совокупным рядом, опирающимся на беспредельное. Среди этого облик начала имеет преимущественно все то, что является единым и многим. Сращение, противопоставление и деление вообще среди сущего, взятого в целом, оказываются объединенными и еще не разделенными, то есть собственно сращением всего, предшествующим всякому делению, в уме же — в первом умопостигаемом — уже некоторым образом проявили себя различение, разделение или некое множество. Ведь промежуточный чин, как было сказано выше, стремится пребывать в приготовлениях к разделению, проявляется в нем, пусть даже и не неся в себе ничего разделенного. Таким образом, первое действительное противопоставление берет свое начало в третьем устроении умопостигаемого, ибо первое разделение и различение — это как бы исток; тот же чин воспевается как «исток истоков»86.
53. Далее, в-пятых, от раздельности мы всегда восходим к неделимому, так что и от раздельности, общей для всего, мы будем восходить к общему для всего неделимому; оно окажется слиянием или, вернее говоря, единством (ενωμα) всего. Ведь то, что есть все в объединенности и нерасторжимости, исток множества потоков, неделимое единство,— вот это-то, пожалуй, как мы обыкновенно полагаем, и есть сущее. В самом деле, единое, обладающее свойствами, не будучи единым, окажется сущим, пребывающим одновременно и единым, и не-единым, причем и ими — еще не определенными; потому-то его и следует называть всего лишь объединенным. А вот если мы будем совершать восхождение от совершенной раздельности (διά κρίμα) всего к его полной слитности (σύγκριμα), а от множественности всего — к его единству, то очевидно. что, пытаясь вознестись даже к этому потустороннему, мы более всего отрешимся от всяческого противопоставления, поскольку от полностью нерасторжимого и объединенного космоса перейдем к совершенному, который не стоит называть даже и нерасторжимым. Ведь он вовсе и не объединен, но — как самое простое — оказывается многим, или беспредельным, или диадой, ибо объединенное обладает видом и многого, и единого, пусть еще и в неопределенности и пусть в нем их на самом деле не существует. Рассматриваемое же начало — это всего лишь многое, почему оно и существует. Потому-то само по себе оно есть беспредельное, так как воображаемое множество без единого — это беспредельно беспредельное и зияние беспредельного непостоянства. Итак, и беспредельное оказывается единым — хотя бы лишь в силу участия в нем, а его наличное бытие и как бы своеобразие — это только многое и беспредельное, причем не такое многое, каково определенное в виде некоего числа, которое из многого, слитого благодаря единому, становится объединенным; оно есть единое многое в силу своего своеобразия, причем, конечно же, это самое, предшествующее многому единое является единым как всего лишь таковое — вследствие своего своеобразия и только как наличное бытие, но никоим образом не как сущее87,— из-за сопричастности ему. Это начало потому и именуется наличным бытием, что пребывает лишь в виде последнего. Второе начало, будучи причастным первому, выдвигает вслед за ним на первое место как свое собственное его наличное бытие, дарующее качество множественности. Оно первым явило в себе двойственность и выход за свои пределы, потому что первым появилось на свет, а идиому хаоса — потому что первым вместило в себя то начало, которое ему предшествует, и некоторым образом первым вышло за пределы единого88.
Итак, ни то, ни другое начало не является ни объединенным, ни смешанным, ибо последнее нуждается, по крайней мере, в двух различных предметах и еще в одном — соединяющем их. Следовательно, оно заключено в третьем, следующем за первым, в котором присутствует двойственное участие: с одной стороны, многого в едином, а с другой — единого во многом, причем многое в нем благодаря наличию объединенного и сущего предстает как единое; это — триада, или, конечно же, третье. Последнее — совершенный космос и единый корень всего, а каждое из первых двух — тем более совершенный космос, а вернее, причина совершенных космосов: одно — их основание как объединенных, а другое — как отдельных и множественных; они также есть причина и самого первого космоса89 среди всех, потому и называемого тайным, причем всецело, что он не является даже семенем возникающих от него божественных миров, а есть потустороннее семенному началу, если, конечно, всякому семени предшествует слившая в себе все воедино, нерасторжимая и единая природа. Потому-то теолог90 и воспевает его как первого Мудрого, «семя богов несущего», а сами боги именуют его истоком всех возникающих из этого истока устроений91. Этот космос настолько отличается от того, связанного с противопоставлением взаимного расположения рядов вещей, что для всякого последнего оказывается единым сращением и единством вместе с рождающим разделение умопостигаемым обликом. Если же таков первый Мудрый, то более всего таковым оказывается и носимый во чреве Мудрый92 или, как, пожалуй, можно было бы выразиться изящнее, умопостигаемая срединность, рождающая Мудрого; разумеется, ей предшествует само сущее — поистине тайное устроение. Стало быть, еще более совершенна его причина — уже не сам космос, а причина космоса, причем являющаяся таковой в той мере, в какой последний есть многое, подобно тому как ей предшествует его причина, выступающая как таковая в той мере, в какой он есть единое,— ибо космос есть и единое, и многое, причем в нерасторжимости.
Поэтому давайте мы перейдем к шестому колену93 аподиктического рассмотрения того, что каждое из трех начал есть все, причем предшествующее всему: третье — это все как единство всего, первое — все как единое, словно единая и совершенная простота, промежуточное же — все как все, ибо оно и есть все, причем в качестве многого, каковым и является все. В самом деле, все, разумеется, отнюдь не есть некоторые вещи, так как они представляют собой определенное многое; начало же — это просто многое, так что здесь имеется в виду все не как определенное и не как объединенное, ибо оно не причастно множественности, но оказывается ею самой, так что предстает как все в наличном бытии: подобно тому как сущее есть все в сопричастности, объединенное — в своем наличном бытии, и точно так же, как все в качестве единого есть единое в своем наличном бытии; это все — как бы причина, если позволено так выразиться. Так получается, конечно же, не потому, что единое есть причина всего,— ибо в таком случае оно вновь будет не-единым, а потому, что оно есть всего лишь единое, несущее все. Поэтому здесь и подобает определить начала при посредстве имен: первое — как единое, предшествующее всему, второе — как все, а третье — как всеединое в единстве.
Пусть именно эти определения и будут использованы при рассмотрении вопроса относительно так называемых двух начал.
6. Символический статус первоначала
54. Ясно, что такие начала не являются вещами одного порядка, так как о них часто говорится,— конечно же, ради их наглядного представления на основании хорошо известных предметов,— что их даже не два, поскольку на самом деле любое число и даже сама монада стоят ниже их94, что они не отграничены друг от друга, ибо даже в третьем начале нет еще разграниченности, но существует лишь заведомое единство (προένομα) того, что позднее будет обособлено от него, и что инаковость не расторгает их, раз к ним не относится и тождественность; но, напротив, конечно, сами боги, беседуя с людьми, показали, что эти три начала соотносятся между собой так, как соотносились бы ум, сила и отец95 или же наличное бытие, способность к наличному бытию и мышление об этой способности. Совершенно очевидно, что даже такие определения не говорят о них полной истины. Ведь сама их определенность проявляется в третьем устроении умопостигаемого, причем умозрительно и тайно; в объединенном же объединены и они, ибо там причинствующее не обособлено от причинно обусловленного: даже Ямвлих не считал, что на вершине умопостигаемого существует определенное начало96. Действительно, единая умопостигаемая связность всего подобного — это даже и не противостоящая ей в определенности связь. Ибо в таком случае опять-таки этим двум началам предшествовало бы деление как другое, а, кроме него, впереди них всех стояло бы единство в умопостигаемом, исходящее от единого и свершающееся вокруг единого, словно воплотившегося в их средоточии. В самом деле, в той мере, в какой там предполагается наличие множественного, объединенное не является самим единым, и все равно его необходимо рассматривать как однообразное, ибо единство там даже не могло бы, пожалуй, быть названо противостоящим множественности, поскольку логически противоположное ему множество сосуществует с ним, а впереди них обоих стоит одно единство. И если мы выдвигаем именно такие предположения относительно умопостигаемых предметов, то чего же еще ждать от предшествующих всему умопостигаемому, положенных в его основу двух начал? Разумеется, не того, что они в еще большей степени объединены, а скорее того, что они, находясь впереди всего объединенного, будут как два совершенным единым. Так разве их два? Пожалуй, это невозможно — по крайней мере, не в виде диады,— поскольку в высшем еще не существует числа, как и определенности вообще, ибо нет и монады; ведь то, что называется единым, не есть само по себе ни единое, ни многое, коль скоро последние два определяются как противоположные друг другу. Тем не менее мы пользуемся этими названиями, поскольку не владеем достойными их наименованиями, как не имеем и соответствующих им мыслей. Ведь сами эти умозрительные образы — всего лишь то, что может быть постигнуто в нашем мышлении, ибо, согласно Ямвлиху, вершина умопостигаемого на доступных взору ума просторах не мыслится97. Уму, если бы он, будучи таким соединением, вознамерился бы обратиться к тому, что совершенно объединено, необходимо было бы заключить свои мысли в умопостигаемое.
Итак, не следует говорить ни о двух началах, ни о едином — по крайней мере, в смысле их исчисления; скорее всего, это возможно лишь в предположении того своеобразия, которое, как мы говорим, присуще как диаде, так и монаде. Ведь диада существует, поскольку она диадна, а монада — поскольку монадна. В таком случае они в совокупности есть и единое, и многое, но не по своему своеобразию, так же как и не по числу и не по количеству вообще, не в силу обладающей количеством природы и не благодаря началу количества, как и качественно определенной сущности,— а как потустороннее умозрительным представлениям обо всем этом. В самом деле, перечисленное — это нечто частное и определенное, и мы не довольствуемся им, но для выявления высшей природы пользуемся в дополнение чем-то иным; ни одна из этих вещей не участвует в истине, но на основании всех их мы вынуждаем нашу мысль возвышаться до неопределенного и великого по природе,— и когда мы говорим про два начала, и когда подчиняем одно другому в его выходе за свои пределы, пусть даже в высшем не существует ни диады, ни какого бы то ни было выхода за свои пределы. Пожалуй, было бы лучше, если только возможно, не представлять эти начала в виде двух монад, но вести речь о двух как о некоем диадическом едином, подобно тому как можно было бы мыслить некое единое диады. Впрочем, и подобное предположение не имеет силы в отношении их,— ибо такое единое есть какое-то <определенное> единое, поскольку в данном случае одна принадлежность чисел сосуществует с другой98. Значит, лучше взять вот это самое единое и общее для всех вещей и, представив его двухвидовым, то есть объемлющим все и как объединенное и как разделенное, тем самым привести его в соответствие природе так называемых двух начал. На этой основе мы предпринимаем попытку прояснить или показать их по мере возможности: то исходя из вновь взятых в чистоте двух рядов, восходящих от низшего к наивысшему — к двуединой вершине, то еще более великим образом — на основании целостных и повсеместных плером и всеобщих миров как становящихся множественными и объединяющихся, извечно выстраивающихся в определенном порядке благодаря тем, столь великим ступеням и возводящих нас к присущему первым началам совершенному водительству и управлению. Пожалуй, мог бы иметься и иной, более блистательный, соответствующий им и вполне наглядный путь восхождения к ним,— тот, который опирается просто на все каким бы то ни было образом сущее и на наблюдающуюся среди такового соотнесенность причинствующего и причинно обусловленного. И сколькими бы способами ни пожелал или ни смог бы вообразить кто-нибудь то, что касается высшего, пусть оно будет представляться ему не как вот это или вон то среди названного, и не как то, на что все это указывает, а как начала еще более высокие, нежели те, и как причины, еще и этим в применении к тому не явленные; причем я произношу слово «начало» не в смысле «причина»99, так же как и не в значении соответствующего ему предмета. Ведь эти последние определены в низшем чине умопостигаемого так, как это свойственно именно ему, в его среднем чине названное вычленяется как еще только родовая мука разделения, а на вершине все вообще сливается воедино в единстве всего.
Итак, <объединенному> предшествуют два начала, и второе примыкает к нему как родовая мука всего, а первое стоит выше даже того в своей предшествующей всему простоте, в которой оно представляется единым, так же как названное — соответствующее родовой муке всего — кажется многим. В самом деле, если позволено дать такое определение, первое есть «все-единое», а второе — «едино-все», так как последнее, будучи всем благодаря самому себе, тем не менее из-за бытия первым каким-то образом оказывается единым, а первое, будучи единым-в-себе по причине самого себя, тем не менее выступает как все, поскольку обусловливает наличие второго. Третье же, с одной стороны, благодаря первому выступает как единое, а с другой — в силу своеобразия второго предстает как все, так что под действием последнего становится множеством, а под действием первого объединяется; оно стало первым составным, образовалось как единство всего и из себя самого выдвинуло на первое место то объединенное, которое мы именуем сущим и в котором единое по своему своеобразию есть объединенное, подобно тому как собственный признак предшествующего ему начала — это бытие всем, а того, которое стоит выше и его,— предшествование всему; второе всеединое — это все, а третье — это то объединенное, которое состоит из единого и всего.
Впрочем, об этом речь пойдет ниже, когда мы тотчас вслед за этим будем говорить о третьем.
Вторая часть
ОБЪЕДИНЕННОЕ КАК СМЕШАННОЕ
1. Постановка проблемы и формулировка обсуждаемых вопросов
55. Итак, пора перейти к третьей проблеме в рассуждении, а вернее, к третьему началу всего. Ибо, похоже, такое рассмотрение отчасти будет относиться и к двум первым началам. Мы, разумеется, станем исследовать объединенное, каковое именно мы и расположили на третьем месте. Что же оно такое? По какой причине мы полагаем его третьим? И почему Платон, как и все остальные философы-платоники, а до них Филолай и другие пифагорейцы называют его смешанным?100 Конечно, это происходит не только потому, что оно оказывается как бы сплоченным из имеющих предел и беспредельных предметов, каковым называет сущее Филолай, но и потому, что вслед за монадой и неопределенной диадой в качестве третьего начала располагается объединенная триада. Любое же объединенное есть смешанное, поскольку оно имеет облик и единого, и множества. Поэтому необходимо исследовать и то, смешением чего оно оказывается.
В самом деле, Орфей говорит:
...Крон величайший воздвиг во эфире Зевеса
В блеске яйцо101.
То, что он его воздвиг, означает, что это предмет сотворенный, а не рожденный; последнее же приводит к заключению о том, что он состоит, по крайней мере, из двух вещей: из материи и эйдоса или каких-то, аналогичных им. Кроме того, это значит, что смешанное является чем-то лучшим, нежели его собственные стихии, из которых оно создается, а также то, что стихии возникают из предшествующих им начал, которые по своему своеобразию однородны им. Действительно, к подобному выводу, похоже, стремится также и Платон: все то, что располагается вокруг и среди этого, должно вызывать затруднения и, насколько это возможно, служить предметом размышления о столь великих вещах.
2. Статус объединенного
Что касается предшествующего всему единого, то можно было бы, пожалуй, изучить вопрос, почему объединенное не следует непосредственно за ним; ведь объединенное — это первое единое, обладающее свойствами, и, стало быть, оно следует за единым как таковым.
Однако, помимо этого, объединенное должно быть многим. Ведь вместе с ним проявляет себя и некое множество, как бы поглощаемое единым; следовательно, начало многого есть еще и множество, так как многое, в свою очередь, причастно единому. Таким образом, не является ли это самое начало объединенным, раз оно пожелало стать беспредельным, но было сковано своей причастностью единому? Скорее всего, само объединенное желает быть как бы смешанным, но никоим образом не составляется из наличного бытия и причастности, поскольку причастность другому в нем, так же как и его наличное бытие, никоим образом не могли бы быть стихиями или частями чего-либо, ибо в таком случае наличное бытие будет, с одной стороны, как бы стихией, заранее положенной в основу в качестве материи, а с другой — самим по себе наличным бытием как чем-то прибавляющимся, словно некий эйдос, к сопричастности как единой стихии102. Вообще же, стихии в каком-то смысле занимают равное положение, какового не имеют сопричастное и сама сопричастность, не образующие также и антитезы.
Кроме того, существуют, по крайней мере, две стихии; второе же начало — это диада как диадическое единое, а также многое и беспредельное, поскольку и множественность и беспредельность в свою очередь оказываются всего лишь едиными, а множественным и беспредельным это начало пребывает лишь в силу своего своеобразия103. Следовательно, в данном случае они еще не являются стихиями объединенного104, поскольку его созидает единое, прибавившись ко многому, ибо оно соединяет, но, конечно, не то иное, которое само по себе есть всего лишь единое и простое, а то, которое многочисленнее единого, причем в обсуждаемом случае этого самого более многочисленного еще нет, так как оно возникает благодаря участию во множественности,— ведь последняя разъединяет, а объединяется разделенное, которое следует за началом, дарующим качество множественности. Таким образом, в изначальном третьем многочисленность всего лишь воображается, почему именно в этом самом изначальном и существует единство многочисленного, само же оно есть предшествующее всему объединенное. Стоящее впереди него второе начало причастно единому, ибо и само оно уже стало единым,— будучи же многим всего лишь в смысле своего своеобразия, оно не обладает единством. В самом деле, последнее могло бы присутствовать лишь там, где есть раздельность множественного. Итак, по данному вопросу, пожалуй, нельзя было бы выдвинуть иных предположений.
3. Природа стихий смешанного
Каким же мы назовем то множественное, которое присутствует в третьем? Ведь оно, разумеется, есть сами стихии смешанного. Что же это на самом деле такое? Конечно, проще всего сказать, что исходящее от высших начал участие является единым и многим, каковые достигли третьего, или, если угодно, назвать их пределом и беспредельным или теми монадой и неопределенной диадой, которые образовали ипостась объединенной триады105. В самом деле, триада будет существовать лишь благодаря собственному своеобразию, но никак не в виде слияния множественного, как не будет она и числом106; разумеется, последнее так и останется лишь тем, что образовалось из такового — монеты и диады вместе взятых.
Однако если бы подобные предположения были высказаны, то прежде всего мы стали бы испытывать нужду в ином начале, предшествующем их двоице. Действительно, если они — начала двух стихий, а прежде них существует смешанное из них, то возникает необходимость образовать для смешанного его собственное начало, также именуемое смешанным,— по крайней мере, с целью указать на него и на некое подобие своеобразия, существующее прежде этого самого подлинного смешанного, подобно тому как слова «единое» и «многое» относятся к одноименным стихиям; тем самым мы будем заранее предполагать наличие в смешанном чего-то иного и этому смешанному в свой черед будут предшествовать два начала. Ибо всякое смешанное в чем-то имеет облик единого, а в чем-то — множества; в таком случае, все время предпосылая начала соответствующим началам, мы уйдем в бесконечность107. Впрочем, те философы — а к их числу относится и Платон,— которые указывают на предел и беспредельное как на стихии смешанного, а прежде них — на смешанное и на потусторонние смешанному опять-таки предел и беспредельное как на два начала стихий108,— так вот, эти философы тем не менее не считают необходимым помещать впереди двух начал смешанное как иное, единое начало.
Далее, каждое из начал вовсе не пребывает в таком положении, при котором оказывается частным, то есть началом лишь одной из стихий: одно — только предела, а другое — беспредельности; напротив, оба они есть начало всего: одно — как разделенного, многого и беспредельного, если бы подобное могло иметь место, другое — того же самого всего как <объединенного>109, как единого и как ограниченного пределом. Ведь, вообще, начало многого, дарующее качество множественности, в каком-то смысле выделяет стихии — будь их изначально две, будь их большее число, будь они просто обретшей множественность плеромой третьего. Начало же единого, настигая их, созидает предшествующее многому единство, которое и есть смешанное, словно составленное из частей и целого — многого и единого.
Так не получается ли, что смешанное лежит в основе участия <всего> в двух началах? В самом деле, рассуждение вновь возвращается к единому и многому как к стихиям, хотя мы уже и выразили свое несогласие с философами, придерживающимися данного мнения110. Пожалуй, третье есть единое в силу причастности единому, многое же — это как бы множественность в качестве однородного выхода за пределы второго начала, но никак не смешанное. Однако последнее появляется на свет от первого начала как бы в виде монады, а от второго — как бы в виде диады, и поскольку оно именуется смешанным, то возникает из них обоих как иное по своему виду — словно смешанное из несмешанного, подобно тому как в качестве того же по виду из них обоих возникает все как единое и все как многое. Поскольку те сопричастности, которые появились как принадлежащие к одному и тому же чину, противодействуют друг другу, единое в них приумножено и разделено во множественности, многое же соединено и обладает одной и той же природой. Последнее состояние и предстает как единство, будучи воплощением единого во множестве, а первое оказалось разделением, будучи воплощением [единого во множестве] многого в едином; именно так в третьем и сочетаются единство и раздельность, из которых и составилось совокупное смешанное.
Далее, смешанное при самопроизвольном выходе за свои пределы уже произвело из себя и одновременно выделило в себе противоположные друг другу стихии. В самом деле, целое обособляет части в себе и от себя самого; точно так же поступает и такое состоящее из стихий, каковым является смешанное; действительно, оно, существуя прежде стихий, поскольку, конечно же, лучше их, обособляет в себе эти стихии от самого себя, ибо нераздельное всегда существует прежде разделенного111
4. Гипотезы относительно причин смешения
56. Если бы ты посмотрел на то, что появляется от начал, именно так, то твои выводы не слишком отличались бы от моих. Действительно, единое в этом случае будет производить на свет единство смешанного — я говорю о смешанном как таковом,— а состоящее из стихий его множество оказалось бы прославленным началом многого, поскольку начало воипостасно для начала и единство одновременно созидает множество стихий. Однако последние, чем бы они ни были, например пределом и беспредельным или единым и многим, принадлежат к противоположным друг другу рядам вещей. Итак, коль скоро они таковы, каково то, что производит их на свет? Ведь лучшее вновь происходит от лучшего начала, а худшее — от худшего. И опять у логически противоположных стихий оказываются два начала, притом стихии либо всего лишь одноименны последним и имеется какой-то иной путь, относящийся к ипостаси112, либо аналогичны им и скорее всего происходят от этих двух начал. Однако возникновения одной стихии от одного начала, а другой — от другого отнюдь не происходит: скорее смешанное создало и выделило их в согласии с собственной двуединой природой. Ведь, будучи единым и многим, то есть, попросту говоря, объединенным, в случае явленности множества оно производит на свет многое, а в случае преобладания единства — единое. Если угодно, <единое и многое> в третьем разделилось благодаря второму началу, причем в согласии с самим собой последнее произвело на свет многое, а в соответствии с сопутствующим ему и происходящим от вышеназванного единого единством — единое. Итак, будучи двумя, они пребывают во взаимном сращении и такое природное сращение предшествует природной же разобщенности; поскольку это так, смешанное происходит от высшего начала. Скорее всего, от последнего появляются на свет обе его стихии, но одна — в той мере, в какой оно сосуществует с этим самым началом, а другая — в той, в которой оно сосуществует с единым. От этого начала каждая из стихий возникает еще и иначе: одна — в той мере, в какой оно есть собственно начало, а другая — в той, в которой оно предвосхитило второе начало113. Впрочем, и множество стихий и предшествующее им единство в смешанном принадлежат к вещам одного вида.
А не лучше ли говорить об образовании смешанного из двух стихий, каждая из которых является всем, таким образом, чтобы одна оказалась слиянием всего, другая — его раздельностью, смешанное же в целом происходило от них обоих? В самом деле, подобно тому как совокупный ум и всякий эйдос есть не только многое в них и не только единое, но то и другое вместе, смешанное также будет прежде всего не тем или другим, но тем и другим вместе. Впрочем, допуская подобные предположения, мы уйдем в бесконечность,— ибо составное каким-то образом логически противостоит своим частям и потому вновь возникает необходимость найти иное составное, коль скоро, например, даже целое всего лишь предшествует своим частям. Если бы целое состояло из целого как такового и из его частей, то возникла бы нужда и в другой целостности, а если бы оно состояло из последней и из двух первых, то вновь появилась бы необходимость в третьем целом,— и так до бесконечности. Если же следует остановиться, то давайте сделаем это в случае первой целостности, говоря только о целом и о частях, так же как и о состоящем из стихий и о самих стихиях.
Однако разве мы не мыслим целое как одно, части — как другое, а составное — как третье, как то, что не образуется из вещей одного порядка, как то, что не состоит ни из стихий, ни из частей, а значит, и не является ни целым, ни сложным, ни, следовательно, смешанным? В самом деле, именно так и возникает нечто, состоящее из причины и обусловленного причиной, ибо и оно будет в каком-то смысле составным, и то же самое относится и к чему-то, составленному из орудия и того, кто им пользуется, как и к чему-то, состоящему из образца и его изображения. Ведь подобное сочетание усматривается в неком взаимном расположении, а не в сущностной соотнесенности114.
Впрочем, если бы подобное составное пребывало бы в едином, как в уме заключаются объединенное и разделенное в нем115, то разве не возник бы из этих двух частей единый ум, причем так же, как образуется объединенное, изгоняющее за свои пределы разделенное. Ведь, похоже, подобное ему является чем-то промежуточным между двумя — как бы составленным из стихий, существующим прежде них и составным по отношению к причинствующему и к причинно обусловленному, между которыми нет ничего общего по их сущности и связь между которыми создает лишь их взаимное расположение116, тем не менее переходящее с причинствующего на причинно обусловленное; при этом ум состоит из двух целостных по природе плером — объединенного и разделенного, поскольку целое есть ум, названное же — это не противостоящие друг другу ряды его частей, а плеромы, возникающие одна на основании другой в таком же соотношении, в каком небо находится с поднебесным местом. Ведь возникшее раньше — благодаря обособленной причине — всегда производит дополнительное разделение и образует по этой причине вторую плерому, и все равно составленное из них оказывается сложным и как таковое — целым, части же ему потусторонни, пусть они и полностью включены в целое. Ибо и в космосе существуют две наиболее важные в смысле видообразования части: небо и все поднебесное, то есть все то, что бессмертно, и все то, что смертно, коль скоро даже материальный космос слит из трех материальных космосов117, соотносящихся с целым как части118.
Пожалуй, названное не будет еще ни сложным, ни целым; оно также не состоит ни из стихий, ни из частей — это как бы цепь, некий выход за свои пределы, в нисхождении проходящий состояния первого, промежуточного и последнего; он обладает неким явным и целостным устройством, причем, разумеется, не таким, какое имеет целостность по отношению к частям, и не таким, какое присуще смешанному в соотнесенности с его стихиями, а, как было сказано, тем, которое соответствует всегдашнему природному родству второго и того, что идет впереди, и взаимной связи появляющегося с тем, что его производит на свет. Не правда ли, подобный выход за свои пределы еще не явлен в первом смешанном, поскольку оно есть первое, причем еще не совершившее нисхождения к первой и второй плеромам? Впрочем, конечно же, в этом случае само первое окажется смешанным и равным образом смешанным будет и второе. В самом деле, в уме и то и другое есть смешанное, поскольку он сам есть смешение смешанного; высшее же смешанное — наипростейшее из всего. Потому скорее всего только кажется, будто оно смешано из стихий. Ведь такое смешение не тождественно составлению из частей, ибо раздельность последних значительно больше, поскольку они находятся на каком-то расстоянии друг от друга, стихии же более всего стремятся соединиться и как бы слиться между собой, при том, что своеобразие каждой из них в смешанном не проявляется, подобно тому как виды совершают обратное и каждый из них описывает сам себя в согласии с собственной формой. Части же занимают промежуточное положение, поскольку они разделены в частностях и потому именно называются частями; однако они тщатся уничтожить раздельность в своей устремленности к целому119. Таким образом, по самому своему смыслу виды появились в третьем чине умопостигаемого, части — в среднем, а стихии — в высшем, в котором, в согласии с истиной, ни у чего не выделяется ничего собственного, но все поглощено одним только единством смешанного, поскольку даже множество стихий некоторым образом не разделено там на вот эту стихию и вон ту,— в этом случае в полностью объединенном вследствие простоты первого смешанного лишь как бы воображается некий вид множества. Действительно, это только нечто многое, но не определенные предметы, пребывающие во множестве, подобно тому как едина вода, которую можно разделить многими способами. Вот каково там множество, которое все равно слитно и скрыто в единстве.
Следовательно, нет двух плером смешанного — единства и раздельности, как это имеет место в уме, а есть всего лишь целое и несмешанное — в том смысле, что смешение проявляет себя только как первое своеобразие. В самом деле, оно не возникает так, как возникает смешанное из множества вещей, слитых воедино (ведь такое утверждение не будет верным даже в применении к смешению в нашей душе), и не происходит от чего-то множественного, одновременно с единым проявляющего себя там в согласии с истиной,— ибо подобные представления о разделении мы относим на его счет по аналогии с умом. Впрочем, подобно тому как многое мы рассматривали в качестве некоего единого и законченного своеобразия, как единое являющегося всем, точно так же смешанное мы будем понимать как единое, простое и несоставное своеобразие, оказывающееся при этом в своей простоте всем — с тем лишь уточнением, что оно существует собственным, присущим всему как смешанному способом. Ведь смешанное — это по преимуществу все, причем предшествующее тому, которое называется всем, идущим впереди всего по отдельности. Всем оказывается также второе начало, но как более простое. В самом деле, оно пребывает, подобно объединенному, не только в нерасторжимости — как общий порядок и, если позволено так выразиться, как сплоченность, но просто как несопоставимая с многим беспредельность и превышающая всякую границу безграничность, ибо сама всеохватность всего оказывается неким рубежом. Помимо них, всем является и первое начало, но как нечто еще более простое, поскольку оно все равно оказывается началом, но неопределенным и не заключающим в себе все,— как, конечно же, единое в его предшествующей беспредельному простоте; оно пока не разлито во многом, но в значительно большей мере обособлено от присутствующего в смешанном объединенного порядка всего; в этом порядке объединенное заняло положение некоего подобия скрепы, препятствующей растеканию многого и проявлению его беспредельной природы; многое, как мы полагаем,— это как бы течение единого120, и вот это-то течение, но уже словно застывшее, мы и называем смешанным и первым объединенным. Поэтому все то, что мы выше, проводя разделение смешанного, говорили о его составе, с тем чтобы начать мыслить само смешанное, сейчас, на основании этого рассуждения, мы сводим к единому и нерасторжимому своеобразию смешанного и к подлинно умопостигаемой вершине всего. Я призываю богов быть снисходительными к слабости вот этих размышлений и тем более объяснений. Ведь без этой противоречивой твердыни рассуждений и без их вынужденно безыскусной метафоричности мы, пожалуй, не смогли бы указать ни на что как на первейшие начала121. Да пребудет с нами милость богов!
5. Смешанное в представлении Платона, пифагорейцев и самого Дамаския
57. Точно таким же образом мы будем проводить рассмотрение смешанного, образующегося из стихий, и в том случае, если двумя началами кто-либо будет полагать предел и беспредельное, каковым, похоже, является мнение Платона: как превращение растекания беспредельности при посредстве имеющих облик предела уз в некое иное, единое своеобразие того, что ограничено пределом, в котором пребывают и сам предел и беспредельное122. В самом деле, ограниченное пределом не есть ни предел, ни беспредельность, оно составлено из них. Итак, пусть на равных основаниях с тем, что объединенное мыслится простым и несоставным, смешанное из предела и беспредельного считается предшествующим им обоим, ибо в нем нет еще их разделения, но имеется лишь само смешанное, стоящее впереди них.
То же самое рассуждение будет верно и применительно к синтезу, речь о котором заходит вследствие нашей слабости в мысли123, и к чистой простоте смешанного. И если кто-нибудь представит в качестве двух начал монаду и неопределенную диаду, то он будет рассматривать составленную из них объединенную триаду124 не как нечто, возникшее из трех определенных вещей, а как то, что выступает в триаде самим единым и по этой причине пребывает как бы единым триадическим своеобразием, представляющим все в виде этого самого единого.
Стало быть, в таком случае мы обнаружим, что третье начало, возникающее из первых двух, потусторонне тем вещам, которые называются объединенными и смешанными; совершить восхождение к нему, впрочем, мы могли бы и опираясь на низшее, исходя в своем анализе из того, что происходит от него,— из всего вместе, поскольку и оно есть вершина всего. Мы делаем это, всегда заключая и соединяя множества отдельностей во множества единств, единую и предшествующую всему раздельность — в единое и предшествующее всему единство, а любое возможное их противопоставление друг другу — в единое, простое, совершенно нерасторжимое, непротиворечивое и связующее все вместе объединенное совершенство. И, если угодно, я называю смешанное единством (ενωμα) всего, предшествующим всему смешивающемуся. Все претерпевает в нем смешение; следовательно, оно есть все и то, что предшествует всему, как монада есть всякое число, даже то, которое всегда заведомо предполагается бесконечно большим,— ибо вечно исходящее из нее число125 лишь разворачивает то число, которое в монаде было как бы свернуто. Тем самым смешанное оказывается составленным из беспредельного и предела, потому что оно пребывает сверхнаипростейшим по сравнению со всем следующим за ним и соединяет беспредельность того, что в нем уходит в бесконечность. Впрочем, в согласии с высшей истиной, начало числа вовсе и не есть монада, поскольку под его действием она сама становится множественной, причем такова она лишь в смысле ее наглядного обозначения, в том же, в каком слово «единое» соотносится с первым началом, а «многое» — со вторым. В самом деле, монада есть предшествующее числу слияние единого и многого, как и рассматриваемое начало — слияние двух первых. Умопостигаемое число представляется нам таковым, каковой именно предстает сама монада. Однако давайте рассмотрим это в свое время.
То, что монада содержит в себе и единое и многое, совершенно очевидно, поскольку это свойственно любому числу, а монада есть первое число, пусть даже слитное и нерасторжимое, и потому единое в ней более явное, а множество — более основательное126, ибо в данном случае существует именно просто множество и беспредельное; таким образом, монада есть всякое число, в котором как таковом становление, разворачиваясь до бесконечности, никогда не находит предела этому своему развертыванию. По данной причине монада и оказывается смешением того многого, о котором говорится, что оно каким-то образом заранее присутствует в смешанном,— я имею в виду все на основании его и вслед за ним разделенное — и которое пребывает в нем как нерасторжимое в силу единой, объединенной и всепроизрастающей природы, не охватывающей множество причин следующего за ней (ибо никакая из множества причин не является в ней разделяющей), но оказывающейся единой и способной на все причиной, а, вернее, даже вовсе и никакой не причиной, которая неизбежно будет иной по сравнению с этой природой. В самом деле, она есть познанная природа и исток всего не как объемлющая его единая причина, а как само наличное бытие.
Далее, не получается ли так, что в этом случае объединенное множество составлено из множества видов? Нет — такое смешанное будет Уже результатом действия ума. А не может ли оно состоять из частей? Нет— ведь оно было бы уже слиянием целого или, если угодно, его средоточием. Следовательно, ему только и остается быть составленным из стихий. Однако такое смешанное, состоящее из стихий, разумеется, не будет просто смешанным. Впрочем, пожалуй, из многого могло бы возникнуть нечто, и это, скорее, само многое — то, которое еще не есть ни стихии, ни части, ни виды,— ибо каждое из перечисленного само оказывается многим,— но выступает как всего лишь многое127; таким образом, оно — нечто общее для всего многого. Кроме того, в-третьих, только начало многого могло бы даровать качество множественности, причем не как множество стихий, частей или видов; поэтому если в смешанном и присутствует множество, то это всего лишь множество, а не данное конкретное множество, например родов и видов или частей и стихий. Однако, даже если бы подобное допущение и было сделано, соответствующее смешанное все равно не стало бы простым смешанным, так же как и единой и нерасторжимой вершиной всего,— но ведь и начало многого не будет просто причиной всего: оно окажется лишь причиной всего как многого. Впрочем, хотя в целях наглядного представления об этом уже было много раз сказано, но вовсе не потому, что все возникает из многого как многое, из стихий — как стихии, а из чего-то другого — как это другое, ибо такие определения128 впервые появляются только в уме,— я говорю о первых причинах всего этого; потому я пока откладываю детальное истолкование данных вопросов. Что же касается исследуемого смешанного, то оно как бы образуется из всего: и из многого, и из стихий, и из частей, и из родов и видов. В самом деле, оно возникает из сложного и вообще из всего, но, как было сказано, в качестве всего, предшествующего всему. И если кто-нибудь сочтет его смесью двух начал на том основании, что оно произошло от них, так же как от матери и отца появляется один отпрыск, самый первый среди всех их потомков, то он не слишком отклонится от возможного понимания третьего начала, поскольку оно и называется смешанным. И если он будет говорить о его происхождении от всеединого и всемногого, то и тогда он сможет наглядно представить это начало, недоступное и превосходящее.
Конечно, не стоит пренебрегать им, как тем, что не может быть обозначено, поскольку некий образ множества у него оказывается расторжением не объединенного, а еще более простого многого, которое становится таким, что возникшее из него объединенное уже пребывает сложным. Разделение последнего, возникающее вслед за первым объединенным, есть объединенное многое; ведь такое объединенное в данном случае, конечно, нерасторжимо: оно — как бы единое объединенное. Впрочем, детальное обсуждение этих вопросов будет проведено позднее.
Третья часть
ОБЪЕДИНЕННОЕ КАК СУЩЕЕ
1. Объединенное и общепринятые представления о сущем
58. Сейчас же давайте вновь повторим рассуждение о данном начале, но не в связи с понятиями смешанного и объединенного, а как о том, о котором философы129, изыскивая истину и опираясь при этом на какие-либо понятия, говорят как о простом сущем и сущностях и как о самой первой сущности. Действительно, даже если мы, в отличие от них, и не соотносим третье непосредственно с сущностным сущим, а ведем речь о предшествующем ему как о едином, все равно возникает вопрос: почему третья генада, как говорят, является самим первым сущим и первой сущностью?130
Так вот, прежде всего необходимо разделить то, что обозначается при посредстве названных имен. В самом деле, говорят, например, что сущее есть какой-то один из родов сущего, противоположный не-суще-му и логически противостоящий всем остальным родам131; конечно же, такое сущее является эйдетическим, но относящимся к простым видам, сосуществующим с остальными родами. И в «Пармениде» <Платон>, прежде чем перейти к гипотезам, наряду с родовыми эйдосами уделяет внимание и ему132. В другом смысле о сущем говорят как о целостной полноте родов, и это именно то, что мы вслед за Плотином называем собственно сущностью133. Похоже, такое его определение принято в «Софисте» — в том случае, когда <Платон> представляет единое как некое свойство многого134. Сущим также называется и все, предшествующее душе, как это делается в «Государстве», причем там <Платон > называет его сущностью135, а в дальнейшем соотносит с ней род души136. В данном случае он считает нужным называть душу, в отличие от этой сущности, первым становлением. А еще говорят, что сущее и сущность — высший чин умопостигаемого, простое умопостигаемое, каковым в «Софисте» объявляется неподвижное137. Во второй гипотезе «Парменида» <Платон>, назвав его первым сущим и обозначив как «единое сущее»138, производит от него все каким бы то ни было образом существующее, о котором говорится, что оно либо существует, либо возникает, либо не существует, как там и утверждается. Воспевает он его как сущность и в самом начале этой гипотезы139.
Итак, опираясь на какое из этих определений и придерживаясь какого понятия сущего мы должны совершать восхождение к высшему объединенному? Не на род ли — наподобие того, как от единого мы перешли к простому единому? В самом деле, такое сущее является простым и обладает соответствующим первому сущему смыслом. Однако объединенное, представленное как род, будет всем и на него в свойственном ему величии более всего похожей окажется сущность, состоящая из всего,— не какое-то определенное единое, а всецелый космос140. Ибо, подобно тому как она есть все вместе, так и третье начало есть все вместе — в нерасторжимости. Значит, восхождение к нему мы совершим, опираясь не на что-то одно из появляющегося благодаря ему на свет, а на все разделенное, следующее за ним141.
Самое правильное — это принять за основу то простое определение сущего, которое связывает его с одним родом; оно наиболее общее и полное, а также соответствует сущности, составленной из всех предметов. Поэтому в согласии с тем и с другим мы, по справедливости, могли бы назвать это объединенное начало сущностью и сущим. Ведь, конечно же, прежде всякого определенного множества существует его слияние, как прежде видов имеется некое видовое слияние, прежде родов — родовое, прежде частей — так называемое целое, прежде стихий — то, что составлено из них, прежде простого многого — единство или объединенное, а прежде многого сущего — единое сущее. Действительно, имеется некая единая и высшая вершина всех существующих вещей, причем тех, которые просто существуют, каково простое сущее, каково единое, и каково — в связи со многим, то есть с разделенным,— единое и объединенное. Далее, если существующее и многое тождественны по положенному в основу, то бытие сущим и бытие многим различаются между собой. В таком случае и их высшая степень является единой по своему положенному в основу, но как связанная со многим оказывается объединенным, а соотношении с существующим — простым сущим. Так что же, стало быть, объединенное и сущее не есть одно и то же? Пожалуй, в смысле своего рода они не тождественны; в том же, что касается того, что называется образующимся из родов, они — одно и то же. Не иначе как вот и это самое образующееся из родов именуется сущим в качестве именно рода, подобно тому как род покоящегося происходит от покоя, род движущегося — от движения, а роды тождественного и иного — от тождества и инаковости. Итак, и единое и многое берут свое начало от родов; объединенное же состоит в этом случае из единого и многого. Таким образом, совокупное смешанное является единым и тождественным, созерцается же и именуется оно в согласии с каждой из стихии142.
Что же, и объединенное есть стихия? Я говорю — нет, ибо таковым не является ни движущееся, ни покоящееся, поскольку, признав это, мы, конечно, удвоили бы их. В самом деле, целому необходимо давать название в соответствии с привходящим от каждой из его частей свойством, представить же стихии как свойства — это все равно что назвать сопричастность наличным бытием. К тому же в таком случае мы ушли бы в бесконечность, так как всякое наличное бытие связано с некой сопричастностью, принадлежащей тому, что в нем участвует. Кроме того, тогда целое и части станут стихиями и потому окажутся противоположными друг другу143. Что же касается смешанного из них, то в качестве частей оно расчленено, а как целое бесчастно. Бесчастным же я называю такое целое, которое нельзя поделить на части. Однако смешанное в этом случае рассматривается как каждая из соединенных в нем отдельностей. На самом же деле нерасторжимое всегда предшествует разделенному, а слияние всего — его раздельности; вершина же самого отдельного — это та полнота, из которой появляется все остальное. Действительно, именно в этом смысле мы и считали объединенное единой вершиной всего, всеполной природой и единой всеприродностью, которую мы сейчас и исследуем на предмет того, называть ли ее сущим.
2. Как следует воспринимать объединенное?
Конечно, такое название — не то имя для всего подобного, которое соответствует истине, так же как и не умозрительное представление о разделенном, поскольку все те имена, которые применяются к нему, относятся к раздельности, причем во всех смыслах эйдетической144; высшее же объединенное будет совершенно нерасторжимым, и ему в его единственности необходимо пронизывать все как единое. Итак, в каком отношении для объяснения и обозначения пребывающей всем и предшествующей всему единой и объединенной простоты будет достаточно приведенных узкосвоеобразных имен и соответствующих им мысленных образов? Да ведь все то, для чего мы не имеем общего имени и с чем не связываем никакого совокупного и целостного мысленного образа, относящегося к обособленным видам, и — как самого последнего — всего в целом, мы едва ли смогли бы соотнести с одновременно высшей и всеобъемлющей вершиной. Так стоит ли много говорить о том, чему мы не в состоянии дать имя ни на основании отдельных его соединений, ни как-либо иначе,— за исключением, пожалуй, только того, что оно есть слияние, смешение или же что-то другое, но похожее на них? В таком случае какое имя будет носить наше собственное тело, состоящее из четырех стихий? Ведь каждой простой вещи соответствует тело и на основании одной из своих частей в качестве целого оно называется или земляным, или влажным, или пневматическим, или воздушным, или огненным, или теплым, само же это целое общим именем не обладает — конечно, как общее, например человеческое тело, и родовое, например тело живого существа145. Одно дело — это «смешанное растительное», а другое — «бездушное», как и части первого и второго. Пожалуй, даже человечность является какой-то одной из множества принадлежащих смешанному собственных черт, причем она привходит в это смешанное, словно эйдос в материю, по каковой причине материя сама по себе и остается безымянной. Да и чего в этом удивительного, когда даже некоторые эйдосы мы мыслим без их имен, каков, как говорит <Платон>, род тепла и холода?146 Вот в каком смысле смешению стихий не присваивается имени.
Однако не получается ли так, что привходящий в смешение, общий для него собственный признак, видообразующий для смеси, является как бы стихией того целого, которое состоит из материи и эйдоса? В самом деле, он, как и каждая из стихий, является простым. Пожалуй, этого не происходит — напротив, существует некое своеобразие смеси, в соответствии с которым говорится о каждом из составных эйдосов, называемых так по их соотношению с противопоставлением связанных со стихиями и более простых родов147. Впрочем, и каждому роду присущ простой собственный признак, что же касается иного смешения, то оно осуществляется в виде участия в другом — в предшествующем или в занимающем в ряду вещей равное положение. Действительно, и ум, и жизнь, и, конечно же, само сущее являются сущими именно в описанном смысле: каждое из них есть все, но ум — как идиома ума, жизнь — как идиома жизни, сущее же — как идиома сущего148.
Таким образом, разве сущее не оказывается простым собственным признаком (ιδίωμα), каковы сущностность, жизненность — в применении к жизни и умность — по отношению к уму? Пожалуй, оно больше похоже на нечто среднее между стихией и составным эйдосом в целом, какова полнота всего умного. В самом деле, стихии переходят из одного состояния в другое и соотносятся с видообразующим своеобразием как материя, а это своеобразие придает им характер, соединяет и изменяет их, приближая к самому себе, довольствуясь всеми ими и одновременно распространяя на них свою простоту. Потому-то оно и стремится быть целостным более, нежели любая стихия. Ведь каждая вещь является его результатом и в согласии с ним получает свое имя, поскольку и все остальное существует так же. В самом деле, благодаря ему четыре стихии пребывают в виде человека, лошади, Луны или Солнца149. Состоящее из них обоих целое и есть вид, род, ум, живое существо, жизнь или сущее, которое мы, конечно, полагаем первым среди того, что возникает таким образом.
Впрочем, не следует думать, будто, говоря об этом, мы говорим о синтезе, напротив, мы утверждаем, что каждый вид есть единое и многое: единое, поскольку он — это видовое своеобразие, а многое — как те сопутствующие друг другу вещи, которые мы называем стихиями, причем именно многое, возникающее из единого и пребывающее собой в едином. Ведь ум, начавшись с собственного слияния, производит в самом себе множество родов и видов150; точно так же и каждый эйдос, подражая уму в целом, порождает в себе множество родов и видов; так и другие вещи появляются на свет в качестве многого как бы от единого, в качестве стихий — как бы от объединенного, в качестве частей — как бы от целого, в качестве родов — как бы от составной сущности, а в качестве эйдосов — как бы от ума151. Однако давайте скажем об этом позднее.
59. Сейчас же, вернувшись к проводимому обсуждению, мы будем утверждать, что у совокупной плеромы нет единого имени, но нам достаточно дать наименование одним лишь ее собственным чертам. Ведь и мыслить их мы в состоянии с большим трудом, так как они находятся далеко впереди и как бы сильно уменьшены раздельностью и своеобразной атомарностью наших умозрительных представлений; точно так же, я думаю, и горы, когда они далеко, предстают в наших глазах невысокими и покрытыми дымкой, и даже упреждающее наше зрение сияние звезд, Солнца и Луны сводится к чему-то самому узкому, смутному и воспринимаемому нами лишь вследствие некоего истечения от того, что представляется более всего удаленным152. Так вот, мы полагаем, что нечто похожее, но иное, испытывает взор нашей души в отношении сияющего блеска эйдосов.
Стало быть, не получается ли так, что простые собственные признаки, будучи воображаемыми, оказываются неким сведением тамошних плером, пребывающих всеобщими, к мельчайшему и их преуменьшением? Пожалуй, они, будучи для нас какими-то такими, тем не менее сами по себе являются не просто собственными признаками, но в тех плеромах оказываются богаче и отчетливее, и все равно они изначально блистают как простые, властвуя надо всем сосуществующим с их собственным светом, и именно поэтому, хотя они и находятся столь далеко, но одерживают победу и их сияние достигает нас, несмотря на то что все остальное гаснет и его блеск не доходит до нас вместе с их светом.
В самом деле, наиболее общее в случае гор, как и применительно ко всему остальному, рассматриваемому издалека, воспринимается легче, чем детали, скрытые от взора.
Однако теперь необходимо переосмыслить сказанное сначала — то, что вершину сущих вещей мы именуем сущим и сущностью,— в той связи, что соответствующий собственный признак получает свое определение и, как было упомянуто, изначально проявляется вовсе не на каком-либо частном основании, ибо все такие собственные признаки пребывают в раздельности. Вершина же есть начало всего, причем начало, предшествующее всему, а как объединенное оно стоит впереди всего разделенного: существующего, живущего, познающего и вообще каким бы то ни было образом наличествующего. Следовательно, так же как подобное есть все в разногласии, так и природа, вобравшая в себя все, оказывается всем в единодушии; тем не менее она, с тем чтобы можно было ее наглядно представить, именуется сущим по одному лишь роду следующего за ней и происходящего от нее. Эта природа занимает второе после единого положение, так как сообразуется с первым началом.
Итак, пусть нами будет познан путь для восхождения к объединенному как от разделенного, так и от всего как бы то ни было существующего и от того, что называется сущим в том или ином смысле. Впрочем, объединенное — еще и единый и нерасторжимый источник происходящего от него разделяющегося многого и различающихся ипостасей, пребывающий как бы свернутым корнем единого153 и потому соединенный с произрастающими от него мириадами побегов. Действительно, благодаря ему появляется некое подобие ствола, который еще не будет побегами, в свой черед вполне зримого, но еще не как побеги.
О том, что умопостигаемое обретает сущность в едином и вокруг единого, многократно сообщает и Ямвлих154. Подобно тому как единое не является вот этим определенным единым, а равным образом и тем, к которому как к чему-то определенному из всего обращается наша мысль, но пребывает как наглядное представление единого, превышающего его, каковое возводит нас к предшествующему всему, оказывающемуся единой и простой природой всего, точно так же и то, что происходит от него, возникает и существует вокруг него, не будучи чем-либо из многого, объединенным с чем-то или же тем, что зримо всего лишь как бытие, но пребывает в виде наглядного представления, причем в таковом качестве связавшего все вместе и самопроизвольно сделавшего все предшествующим всему, отделяющемуся от того, о чем уже было много раз сказано. Кроме того, мы называем сущим и все существующие вещи, и в таком смысле вышеназванное сущее предшествует всему. Если же все сущие вещи происходят от единого сущего, значит, и то сущее — тоже от него, поскольку оно само включено в него. В самом деле, совокупное не имеет собственного имени потому, что всякое имя разделяет и вряд ли может обозначить единое своеобразие подобно тому, как это происходит и с определением. От существующих же вещей необходимо совершить восхождение к единой вершине всего: к единичной — от разделенных генад и к сущностной — от сущностей.
3. Эманация объединенного в качестве сущего
60. Ну что же, давайте теперь рассмотрим, как у нас из первых двух начал на свет появляется третье,— но в качестве сущего. В самом деле, выше мы доказывали, что объединенное есть единое и многое. Почему же сущее возникло первым, причем обрело наличествова-ние именно такое сущее, которое было сплочено с бытием? Из двух предшествующих начал каждое ускользало в небытие, и в особенности второе, которое устремлялось в зияние множества, словно растекшееся в беспредельности и бессильное остановиться на чем бы то ни было, причем неуловимым оно оказывалось в первую очередь из-за своей тоски по природе беспредельного155; первое же начало обращается к простоте и неделимости единого, не желая быть ничем, кроме этого самого единого, столь сильно, что даже слова «быть» и «желая» к нему неприменимы. Потому-то именно третье начало, возникнув и взалкав наличествования156, предстало как начало сущего, вследствие которого все возникающее оказывается не только единым и не только многим, а становится единым и многим или, вернее, объединенным и множественным, для обозначения чего достаточно и слова «объединенное», поскольку оно содержит в себе некую явленность также и множественного. В самом деле, в третьем начале единое не осталось бесстрастным перед лицом многого, но в своей соотнесенности с многим было как-то разделено, а многое не сохранило собственного беспредельного растекания, но оказалось воссоединено силой вечно ограничивающей его пределом божественной необходимости, принадлежащей единому. Из них обоих и возникло объединенное, а сущее обрело свои свойства как их сочетание и ипостась.
Кроме того, имеет место и другое: многому по природе свойственно производить на свет разделенное, а единому — соединять его в единство. Так вот, подобно тому как второе начало следует непосредственно за первым, многое, появляясь на свет, прежде всего возникает подле единого как то, что происходит от него и подчиняется ему, и то, что связуется и призывается к единению, поскольку само второе начало заключено в первом. Следовательно, то, что возникает из них обоих, не есть ни только единое, ни только многое, но единое и многое вместе взятые. Его-то мы и называем сущим, вышедшим за пределы как единого, так и многого и сделавшимся вслед за ними другим, третьим, которое собственного имени не имеет,— ибо и при обращении к началам их собственных имен не упоминают157. Подобно тому как тем началам ради их наглядного представления присваиваются имена, принадлежащие последующему и определенному, так и третье начало прославляется как сущность и сущее, поскольку оно — это первое объединенное, единое и многое, каковыми можно представить себе каждую сущую вещь.
Однако если объединенное есть сущее,— причем соотносятся они двояким образом: выступают либо как единичное, если вследствие своего собственного своеобразия сущее оказывается также и объединенным, либо как то, что само по себе и в соответствии с собственной ипостасью пребывает и сущим, и объединенным,— то возникает вопрос: что же отличает каждое из них от другого? В самом деле, чем будет отличаться первое объединенное от того же первого объединенного, но как единичное от сущностного? Каким образом объединенное будет присутствовать в своем наличном бытии, если объединенным называется единое, обладающее свойствами, а сверхсущностное единое ими отнюдь не обладает, стремится быть лишь самим единым?158 Пожалуй, здесь имеет место нечто, подобное телесной двойственности: одно тело — это то, которое разделено на три части159, другое же — совершенно нераздельное и бестелесное, но, как парадигматическое своеобразие, являющееся телом. В аналогичном положении находится душа: одна — это та, которая называется первым становлением, а другая — оказывающаяся умом и богом и соответствующая именно этому своеобразию160. Точно так же и парадигма — например, прекрасное-в-себе и справедливое-в-себе,— либо некие умной эйдос и сущность, либо предвосхищение, заключенное в боге и сам бог, как говорит Парменид161; последние есть не какая бы то ни было сущность, а сверхсущностное единое, и все равно прекрасное и справедливое оказывается единичным, предшествующим эйдетическому. Тогда всеобщий ум, с одной стороны, будет сущностью, а с другой — генадой, представляющей ум как некое отличительное свойство, и то же самое относится к жизни. Следовательно, в данном случае есть и сущее, и объединенное: одно будет единичным, а другое — сущностным, но оба они оказываются чем-то смешанным и состоят из многого; такое смешанное — всего лишь своеобразие, и в сходном положении находится то, что состоит из многого. Ведь оно существует отнюдь не потому, что в данном случае имеются многие вещи, — ибо есть только единое, но единое как своеобразие множественного162. Единично даже само множество, поскольку единое во всяком числе — это триадическое единое163, а не единое как таковое, конечно же гораздо более простое, чем числовое единое. Так как множество проще числа в силу самого способа своего возникновения (коль скоро число составляется из многих монад, а множество — из генад, монада же есть множественное порождение генады164), если бы мы приняли монаду и соответствующее ей число за эйдетические, то объединенное на самом деле оказалось бы множеством, множественными вещами в нем и смешанным всего лишь как своеобразие; подобное единое оказывается третьим по сравнению с первым и в силу этого выступает как триада и потому предстает как смешанное. Сущее же и само по себе, и по ипостаси является объединенным, и множество вещей в нем разделено,— если не как число, то, по крайней мере, как само множество; пожалуй, это имеет место даже в том случае, когда оно не рассеяно, а по природе слито в себе и безыскусно объединено165.
Однако если соответствующее многое некоторым образом мыслится как совокупность отдельных вещей, то чем будет каждая последняя? Ведь не монада же она, по своему определению пребывающая в единственном числе, будучи в некотором отношении титанической166. Кроме того, каждая вещь из таких многих желает быть не просто отдельной вещью, но также и всеми остальными, вернее, вместо всех их — единым, причем вобравшим в себя все. Ведь данные вещи оказываются первыми фрагментами (κέρματα) единого167 и потому объемлются единством и прежде разделения, если позволено так сказать, срастаются между собой; в самом деле, они лишь страдают муками родов раздельности. Таково при этом всеобщее разделение высшего многого168.
Стало быть, не есть ли оно пока еще единое? И, значит, в некотором смысле не объединенное? Нет: это или само объединенное, или родовая мука единого в разделении, и, похоже, не что иное, как единое, беременное многим и потому покинувшее пределы единого.
И что же? Все в высшем многом есть объединенное? Впрочем, у этого объединенного еще не возникло расчлененности, ибо оно должно идти впереди того, что выделилось вслед за ним; таким образом, соответствующая отдельная вещь — единое, и если это так, то она — совершенное единое, а вовсе не объединенное169, так как даже множество математических точек не является линией170. Вообще же, это единое оказывается или самосовершенным, или несовершенным. Однако если имеет место последний случай, то каким образом и из-за чего там возникло несовершенство? Если же верно первое, то почему, в то время как богов множество, третье в качестве сущего прославляется как единый бог? И почему сущее предстает в виде множества сущностей, невзирая на то, что мы утверждаем, будто оно, конечно же, является всем в нерасторжимости?
Кроме того, можно было бы выказать недоумение и в том вопросе, почему множество вещей будет считаться предшествующим так называемому смешанному. Ведь общее всегда идет впереди особенного, а объединенное, или сущее,— впереди полностью разделенного в каком бы то ни было отношении, ибо таково движение даже самого последнего становления — от несовершенного к незавершенному.
Итак, давайте поведем рассуждение, обратившись к богу с просьбой понять нас и извинить наш разум, вечно стремящийся к единой истине названных предметов, но по собственной слабости подменяющий одни мысли другими. Мы будем говорить об объединенном. Так вот, первое объединенное является таковым более всего, так что оно никоим образом не разделено и не разделяется. Значит, оно оказывается единым и многим не в том смысле, что многое следует за единым, как и не в том, что единое смешано из многого,— а как единая природа, которую, не будучи в состоянии назвать ни единым, ни многим, но, соединяя эти наименования вместе в смысле «единое и многое», мы считаем объединенным, в каковом многое явлено в той же мере, в какой в него снизошло единое, а единое — в той, в какой оно превосходит раздельность многого. Это — не что иное, как объединенное, стремящееся быть даже не составным, каковым оно могло бы кому-нибудь показаться, но средним между единым и многим, пребывающим в раздельности. Потому-то оно, пожалуй, и будет содержать в себе некую видимость раздельности, но, разумеется, не саму подлинную раздельность. В самом деле, как должно было бы существовать среднее между уже разделенным и полностью единым? Скорее всего, в качестве единого, и к тому же нерасторжимого. Таково объединенное, и по этой-то причине его и полагают первым сущим, ибо собственно понятие сущего не является чем-то наипростейшим и в нем не отрицается некой множественности, как это имеет место в отношении единого. Однако оно не приемлет разделения, будучи всего лишь единым и простым сущим:
...ибо сущее к сущему тянется,—
как говорит в своей поэме Парменид171. Называет же он его единым потому, что только единое могло бы обладать свойствами, как на это указывает Платон172. Оно есть не какая-либо вещь среди многих сущих, но само сущее; таким образом, сущее, как и объединенное, непосредственно следует за единым и предшествует всему разделяющемуся. Коль скоро, как мы полагаем, объединенное именно таково, для апорий попросту не остается места.
4. Объединенное и халдейские триады
61. Давайте теперь проведем аподиктическое рассмотрение третьего начала иначе, разобрав его соотношение с сущностью и с сущим.
Итак, мы говорим: сущее есть то, что способно к действию и действует173. В самом деле, то, что по видимости существует, но не действует, как мы полагаем, на самом деле не существует. Таким образом, первое начало, как гласят оракулы, рассматривается как наличное бытие, а второе, очевидно, точно так же определяется как сила, и, следовательно, третье начало присоединяет к себе еще и энергию. Стало быть, оно существует, способно к действию и действует и именно как таковое называется сущностью и сущим, а потому является триадой174. Сущность следует за наличным бытием, потому что сопутствует силе и энергии, а предшествующее им наличное бытие оказывается причиной, гипостазирующей все, подобно тому как сила позволяет всему обладать способностью; третье же есть то энергетическое начало, которое приводит все к действительности и в результате порождает всякую одновременно наличествующую, могущую и действующую сущность. И теперь любая сущность предшествует силе и энергии, поскольку они происходят от нее, так что в этом случае возникает необходимость в том, чтобы простая сущность еще не обладала ни силой, ни энергией. Пожалуй, она и не владеет ими — теми, которые мы считаем ее ревностными порывами,— и как следующими за ней, ибо в ней пока нет их раз дельности, но можно было бы сказать, что у сущности, предшествующей силе и энергии, они оказываются лишь единым, обретают сущность вместе с ней и в согласии с ними эта сущность порождает и производит из себя в данном виде те силу и энергию, которые следуют за ней. Эти и еще прочнее сросшиеся с первой сущностью силу и энергию можно было бы, пожалуй, оставить в стороне. Таким образом, превыше энергии стоят только сила и наличное бытие, а силе предшествует лишь наличное бытие, причем оно никоим образом не есть ни сила, ни энергия, но именно лишь наипростейшее из всего — наличное бытие.
А будет ли наличествование чем-то иным бытию, как это, похоже, утверждают философы, например Ямвлих в книге «О богах»175, причем во многих местах, и по иной причине? Пожалуй, бытие — это пароним сущности176, а сама сущность, даже если ты будешь считать ее предшествующей силе и энергии, слагается из трех качеств, собственных для нее: гипостазирующего, которое мы называем наличием, динамического, которое является порождающей способностью наличного бытия, и энергетического, которое уже обращено вовне и обнаруживается как поглощенность своим делом, направленным на то, чтобы от мысленно разделенного перейти — в смысле наглядного представления о первых началах — к наипростейшему: от одного лишь наличия — к первому началу, к которому мы восходили, опираясь и на единое, и на предел, и на множество других вещей, а от силы, пусть даже и наличествующей,— к третьему.
Таким образом, наличное бытие есть нечто иное, нежели сущность, поскольку оно является единым своеобразием, в смысле наглядного представления о первом начале, лишенном всего другого. Если же говорить о наличном бытии как об ипостаси, то оно будет тождественно сущности — разумеется, той, которая сочетается с силой и энергией. Ведь все, что предшествует ей, стоит также впереди всякого наличного бытия и есть, как уже было много раз сказано, единое. Наличное бытие, сила и энергия возникли из сущего и в первом сущем — с тем лишь уточнением, что, как мы и сказали, сила и энергия пребывают в нем как наличное бытие, во втором чине умопостигаемого наличное бытие и энергия существуют как сила, поскольку здесь все как-то соотносится с тем, что некоторым образом разделяется, в третьем же наличное бытие и сила пребывают как энергия — и это уже низший чин умопостигаемого и некая обращенность вовне. Потому-то первая энергия и принадлежит умопостигаемому уму. В самом деле, чем будет первая среди всех энергия, как не той, которая возвращается к первому от третьего? В самом деле, у второго еще нет энергии, поскольку в нем пока нет отпадения от бытия, а есть только как бы приуготовление к нему, подобно тому как в первом нет даже такого приуготовления, но есть лишь бытие, не нуждающееся ни в какой-либо силе, ни в энергии.
Итак, в данном случае все это можно было бы рассматривать как весьма отчетливый и распространенный вид умозрительных представлений, что звучит весьма многозначительно, и как наглядное обозначение — причем именно сущего, которое и есть ипостась177 третьего начала,— владеющее всеми тремя как энергия, коль скоро в нем впервые возникает энергетическое начало, даже если последнее по своей природе и сопутствует наличному бытию. Таким образом, третье начало как бы создает эйдосы, а второе — это сила, поскольку она первой оказывается некой напряженностью, еще не превращающейся в энергию. Начало же единого первым — разумеется, в смысле наглядного обозначения — мыслится как наличное бытие, ибо единое гипостазирует все, но никоим образом не самое себя. Действительно, оно еще не будет сущим, причем вследствие того, что последнее причастно гипостазирова-нию благодаря тому, что ему предшествует178. Поэтому ясно, что сущее есть третье начало.
Точно так же следует доказывать, что первый ум в прославленной халдейской триаде — это третье начало. В самом деле, он отпал от причинствующего, вернулся к нему и тем самым произвел первое действие. Ибо то, что связано с моментом появления на свет, еще не совершило подобного отпадения, а значит, не нуждается и в возвращении, поскольку последнее есть исправление выхода за свои пределы. Ведь если сущее как третье первым совершает некое действие, а это означает возвращение к причинствующему, то оно-то и оказывается умом, причем, видимо, случайным образом179. И если третье есть ум, первое — умопостигаемое, а умопостигаемое — это сущность, то первое есть сущность, которую и называют наличным бытием. Если же первое есть наличное бытие в смысле его наглядного представления, то ясно, что и третье есть ум как наглядное обозначение того самого умопостигаемого. Если же третье есть первый ум, то такое третье появилось от единого и к единому же совершило возвращение, а значит, оно-то и есть первое объединенное. А если третье первым покинуло разлившиеся сверх всякой меры начала сущего — предел и беспредельное, то оно само есть первое ограниченное пределом и как бы воплотившееся в ипостась (и потому сущее), и в этом случае ум, называемый так ради наглядности, сходится в тождестве с подлинным первым сущим180. Потому-то ум и восславлен как сущностный и получает свою характеристику на основании бытия, а не мышления; и пусть, если Амелий этого желает, будет сказано, что бытие и есть ум181.
5. Определение сущего
62. Ну что же, давайте еще раз исследуем с самого начала, что же такое, как мы говорим, сущее, каков вот этот самый собственный признак и каков иной,— я скажу: скорее всего, обозначающий бытие каждой вещи. Ведь собственные признаки невозможно мыслить иначе, чем при посредстве их самих, или, по крайней мере, они оказываются более понятными, когда познаются при посредстве самих себя, чем при участии иного. Ибо человека таким, какой он есть, имя «человек» обозначает гораздо лучше, чем какое-то «разумное и смертное живое существо»182. Что же касается простых родов, то дать им определение при посредстве стихий вообще нелегко, поскольку даже среди собственных признаков одни (те, которые относятся к первым видам) более простые, а другие скорее сложные — они принадлежат тому, что состоит из названных видов, как живое существо — из родов сущего, или же всему тому, что, в свою очередь, образуется из них183. Итак, сущим будет то, что предоставляет каждой вещи само бытие и в соответствии с чем она является тем, чем могла бы быть184. Подобно тому как слово «есть» — это связка для всех остальных речений и имен, так и «сущее» — связка для всех видов и как бы корень любого из них, из которого последний вырастает и в котором находится, с тем лишь уточнением, что единое — корень более простой, чем даже этот.
Впрочем, говорить о порядке видов или родов сейчас пока не стоит. Платон, определяя сущее, попытался представить его через его энергию. Действительно, по его словам, сущим мы называем то, что способно действовать и претерпевать185. Затем он, с одной стороны, словно убоявшись представить его движущимся, заявляет, что оно, священное, покоится и никогда не движется186, а с другой — будучи не в состоянии постичь нечто общее для этих двух вещей (так как этой энергии как действию и претерпеванию присуща двойственность) как некую способность для того и другого оказаться впереди и того и другого, перешел к силе и сказал, что вот она-то и есть сущее187, как будто силу можно познать на основании энергии. Действительно, сила как таковая пребывает внутри, та же, которая выходит вовне,— это уже энергия. Далее, сущность всецело покоится, в то время как сила есть то, что готовится к движению. Мне кажется, обратив на это внимание, Стратон и объявил бытие сущим, поскольку он усматривал силу сущего в порыве вовне188. На самом же деле нужно было бы принять во внимание и то, что, хотя бытию и сопутствует пребывание, оно тем не менее не тождественно ему, поскольку соответствующие понятия четко различаются между собой, так как указывают на бытие как на одно, а на пребывание — как на другое. В самом деле, нечто должно сперва существовать, а затем уже пребывать или двигаться. Кроме того, пребывание противоположно движению, поскольку «пребывать» (μένειν) и «покоиться» (ίστασθαΐ) — это одно и то же; бытие же либо вообще не имеет ничего, ему противоположного, либо это небытие, которому его часто противопоставляет Платон. Таким образом, и в случае, если бы кто-нибудь определял бытие единого как ипостась, эту мысль ожидала бы та же судьба, что и Стратонову; в самом деле, стояние — это некий пароним покоя189. И если бы кто-нибудь сделал неким особым предметом обозначения ипостась, то необходимо было бы указать, откуда взялось свидетельство этому; в противном же случае возникнет противоречие с самим словом «есть», поскольку оно указывает на бытие и, следовательно, в данном смысле также основывается на самом себе.
Тем не менее правильнее всего говорить о бытии как о наличествовании. Ведь, как мы утверждаем, наличным бытием является сущность190. Впрочем, если в имени необходимо стремиться к соответствию с самой вещью, то данное название будет обозначать некое второе начало, стоящее по порядку ниже первого; тогда сущее окажется вторым началом вслед за стоящим впереди — единым. И если бы мы по привычке избрали бы в качестве его названия «бытие», то не были бы в состоянии сказать, откуда оно взялось, поскольку ясно, что результатом первого начала является наличествование. Поэтому я не смогу познать бытие благодаря вот этому самому наличествованию и возможно, скорее, обратное.
Самое верное — это сказать, что полностью объясняет природу данного предмета, так же как и соответствующего ему понятия, одно лишь имя «бытие», поскольку все остальное получает свое название на основании сопутствующих ему или одновременно с ним мыслимых своеобразных черт, в данном случае неотторжимых от него и невпопад разделенных с ним в наших понятиях, например наличествования и существования, ибо последнее обозначает как бы еще не свершившийся выход за свои пределы, а первое — то, что непосредственно подчинено первейшему началу. Таким способом ты смог бы отыскать и какое-нибудь другое состояние и совершенно чуждые названия, например «завершение» (τό τελέθειν), на том основании, что оно стремится к совершенству и уже является чем-то близким ему; по этой причине спорным оказывается тот вопрос, к чему возникает стремление — к бытию ли вообще или к чему-то только хорошему, ибо предметом его служит бытие хорошим как то и другое вместе191. Или вот еще: «близость» (τό πέλειν) — поскольку оно приближается к единому и стремится быть вблизи него. А вот: «спасительность» (τό σώζεσθαι) — ведь бытие некоторым образом именно таково, поскольку оно надлежащее, целостное и ни в чем не отстает от него, так как является всем. Или, например, «достижение» (τό τυγχάνειν) — ведь оно тоже иногда будет обозначать бытие, причем называемое так именно как таковое, поскольку всему предшествует то, что уже достигло общей цели и полно блага. Впрочем, об этом достаточно.
63. А как появилось само имя «сущее» (τό όν)? Скорее всего, так, как это предполагает Сократ в «Кратиле» — путем соотнесения с «шествованием» (τό ίέναι)192. Действительно, слова «шествующее» (ιόν) и «шествовало бы» (εϊω) необходимо писать с использованием дифтонгов, почему Гомер и говорит:
Мы же по лесу пойдем (ήομεν), как ты приказал нам193.
На том же основании, как говорят, будут возникать слова έόν и όν, которыми <Платон> стремился обозначить сущее, коему по природе свойственно также действовать, и оно — действующее (τό ένεργούν) и, как он утверждает, еще и могущее (τό δυνάμενον).
Так что же? Только сущее является действующим? Или таковы и прекрасное, и благо, и, конечно, единое и многое как подобия родов сущего, а также покой и движение? Ведь любой эйдос вообще обладает некой силой и энергией. Впрочем, пожалуй, это имеет место потому, что он является всяким сущим и тогда действует как некая сущность, а также как покой и движение — разумеется, в смысле обладания энергией движения и покоя. В самом деле, в таком случае и они способны на действие в результате наличия силы, по сравнению с сущностью оказывающейся собственной и принадлежащей сущему. Пожалуй, тогда имя «сущее» и соответствующий ему предмет будут общими для всего перечисленного, причем не как понятие, относящееся к единственному роду, который мы и называем сущим и бытием, логически противостоящим всем остальным родам, но как так называемое бытие каждой вещи в действительности, говорится ли о нем в связи с ее бытием в возможности или в связи с ее возникновением, которое обнаруживает уже ранее возникшее сущее, объяснение чему я получил в одном сне194, из которого явствовало, что сущее есть бытие каждой вещи в действительности и в этом смысле оно среди всех родов является общим, поскольку выступает как сущность, которую мы имеем обыкновение противопоставлять силе и энергии.
Действительно, если у каждого вида или рода есть свойственная ему энергия, то почему бы у него не быть и сущности как общему ее проявлению, поскольку каждая из них есть результат этого вида или рода.
6. Опровержения и уточнения
Впрочем, тогда самое правильное — сказать, что сама сущность получает свое название от сущего в том же смысле, в каком энергия есть движение и <ее название> происходит от <слова> «движение»195. Пожалуй, движением является и сила, ибо как сила, так и движение есть напряжение сущности. Но разве тогда действует и обладает силой покой? Не иначе как это будет иметь место потому, что и он причастен движению, так же как сущность участвует в сущем в согласии с сопричастностью.
Однако, во-первых, роды участвуют друг в друге в соответствии с собственной ипостасью, предшествующей и силе, и энергии196,— например, ипостасью тождества и инаковости, единого и многого, предела и беспредельного — прежде всего в качестве сущностей, а значит, и сущностей покоя и движения. Следовательно, сущность движения — не только в энергиях и силах.
Далее, силы и энергии причастны всем остальным родам и, разумеется, самому сущему; тем более это относится и к каждой сущности среди других таких же сущностей, и к каждой силе среди сил, и к энергии среди энергий.
Кроме того, сущность логически противостоит энергии, а так называемая сила, располагающаяся между ними197,— той и другой. О движении же говорится лишь в его отношении к покою, а не к сущности и не к чему-то промежуточному между покоем и движением.
Помимо этого, мы вовсе не представляем себе одного и того же понятия, когда слышим слова «двигаться» и «действовать». Ведь когда мы обдумываем остановку, покой, бездействие и тому подобное, мы мыслим вовсе не движения, но нечто противоположное им, ибо понятие «оставаться на месте» противоположно понятию «двигаться». Если бы в обоих этих случаях происходило действие, то движение не было бы противоположно ему; если же мы назовем общим движение, то что мы скажем о покое? Ведь покой необходимо противопоставлять движению. А если сила есть движение, то что же такое покой? Ибо, за исключением сущности — разумеется, лишь некоторым образом,— нет ничего того, что противостояло бы и энергии, и силе. Следовательно, сущность будет покоем. Примерно таково мнение Стратона, и оно не представляется верным198. Если же сущность есть то, что порождает силу, а вслед за ней и энергию, то движение, как и покой, окажется просто каким-то одним из родов, и, следовательно, они будут логически противостоять сущему. Таким образом, они не станут его порождением и неким напряжением, поскольку будут участвовать в нем не более, чем будет иметь место обратное. Действительно, сами по себе отдельные сущие вещи есть лишь то, что они есть, и только вслед за ними возникает их взаимная соотнесенность как некое проявление дружбы199. Поэтому сущее участвует в движении и покое, а значит, движение происходит отнюдь не благодаря сущему и не является его энергией в качестве именно сущего. В самом деле, разве могло бы обусловленное причиной придать какое-либо качество самой причине, как и порожденное — порождающему?200
64. Кроме того, действие (τό ποίεϊν) является энергией. А разве будет энергией претерпевание (τό πάσχειν)? Однако претерпевание, в свои черед, есть движение, и, пожалуй, претерпевающее обладает действованием201 в том же самом отношении, в котором оно претерпевает, и это означает, что его дело есть претерпевание, поскольку даже о материи Можно было бы сказать, что делом ее является единственно претерпевание, но никак, в дополнение к нему, не действие. Энергия — это выполнение собственного дела202, а сила — приготовление к такой энергии. Но если энергия каждой вещи и есть свершение соответствующего природе дела, то возникает необходимость исследовать то, чем же является это самое дело,— оказывается ли оно чем-то иным по сравнению с тем, что совершается, или тем же самым. Однако если имеет место последнее, то и сущность проявляется как энергия, и тогда, разумеется, и покой, и всякий вид и род, а не только движение, будут соответствующим делом и рассуждение потребует некоего свершения этого дела, иного по сравнению с самим делом, и то же самое будет относиться к энергии. Следовательно, энергия окажется не движением, а скорее делом. Если же верно первое из вышеназванных предположений, то приведение всего в движение окажется делом самого движения и, значит, энергия его будет выполнением такого дела. А если вот это самое выполнение и есть дело, то, пожалуй, об энергии, которая является его совершением, не следует говорить, будто она и есть само дело. Если же дело заключается именно в том, что его совершает, то тогда само это дело и будет совершающим его, например, «плясать» окажется тем же самым, что и «пляска», но предстанет также и как результат названной энергии, в котором последняя проявляется. Ведь всякая энергия существует ради этого результата и не предшествует тому, ради чего она существует203.
Далее, движение приводит в движение, так как придает соответствующую особенность, так же как покой — свойство пребывания на месте. Таким образом, и движение и покой будут действовать; следовательно, энергия не есть движение.
Даже если движение в качестве движения есть не что иное, как само движение, все равно энергия в соответствии со своим названием будет выполнять совершаемое дело одновременно с ним. Но поскольку все то, что действует, оказывается таковым,— например, энергия человека есть действующий человек, а энергия коня — это конь,— то разве могло бы движение быть и неким целостным эйдосом, и энергией, если оно является всего лишь движением? Пожалуй, можно сказать, что энергия — отнюдь не движение как своеобразие, а как бы некий составной эйдос, пусть даже и обретающий свой облик прежде всего именно в движении. Однако энергия может быть и составной — когда она принадлежит составному, и простой — когда она присуща простому. Ведь, вообще-то и движение обладает энергией, причем и простое — потому что оно не есть сущее, и составное — как возникшее в виде эйдоса204.
Так вот, обо всем этом было сказано сверх надлежащей меры по той причине, что данные рассуждения отличаются от мнений философов, которые имеют обыкновение говорить о движении и об энергии как об одном и том же205. Однако к сказанному необходимо добавить вот еще что. Если энергия не есть движение, то окажется ли она неким эйдосом, благодаря участию в котором действует как она сама, так и другое, подобно тому как движется и покоится все по причине движения и покоя, или же будет самой напряженностью каждой вещи среди других и словно бы ее выходом за свои пределы к себе самой или к иному?
65. Те же самые сомнения можно было бы, пожалуй, высказать и по поводу силы.
В самом деле, если в этом случае будет говориться о втором206, то откуда у другого возьмется вот это самое своеобразие — способность и действование? Ведь для каждой вещи бытие тем, что она есть, как и способность и действование,— это нечто другое по сравнению с ней самой. Если же говорится о первом207, то что же — значит, энергия и сила208 не являются выходом каждой вещи за свои пределы? Пожалуй, такой выход есть единое своеобразие, так же как и разделение, и любое то определенное понятие, которым во всех отношениях будет обладать это самое своеобразие. Ведь сама вещь есть нечто отличающееся от всего этого — то, что происходит от собственного начала, и соответствующее положение дел не следует приписывать воле случая, если только существует различие самих предметов, а не одних имен.
Кроме того, и сами философы209 говорят, что сила происходит от первой силы, так же как наличное бытие — от наличного бытия, энергия же возникает от третьего, смешанного, поскольку она проявляет себя в нем, и как нечто третье, так как возникает после силы. Поэтому ясно, что последняя не есть движение: при ее появлении еще нет родов сущего.
Так что же, разве в первом смешанном нет энергии, силы и наличного бытия? Конечно, есть — ведь оно-то и будет объединенным. Пожалуй, необходимо согласиться с тем, что здесь три названных момента объединены и потому еще никоим образом не возникает обращенности вовне, и эти моменты лишь связаны и объединены между собой, но ни в каком отношении не разделены: они втроем пребывают как одно, называемое смешанным, как и было сказано выше.
Итак, мы утверждаем, что бытие есть энергия сущего, хотя <само слово «бытие»> скорее указывает на его природу. И даже если последняя созидает сущее, то, конечно, благодаря бытию и творению сущего как таковым. Ведь энергия ума проявляется отчетливо, если совпадает с его сущностью и как бы сплочена с ней210, и вот это-то и есть сущность сущего, подобно тому как сущность жизни связана с неким проявлением обособленности. Ибо мы говорим о жизни — «жить», и кажется, что последнее понятие является иным по сравнению с жизнью, и все равно оно выступает как тождественное ему, поскольку обозначает бытие жизни211. Что же касается душ, то среди них имеются и те, которые следуют за сущностью, и те, которые ускользают от нее, подобно тому как в случае материальных эйдосов сами сущности растекаются вовне, прочем, это иное рассуждение.
Что касается бытия, то оно тождественно сущему лишь как энергия сущности, соединенной в средоточии силы. Помимо этого, сущее есть какой-то один из родов212. Ведь мы мыслим его как таковое, и результатом его является бытие как нечто определенное; высшее же сущее мы называем так с целью его наглядного представления на данном основании или, скорее, как было сказано, вообще на основании сущности, которой логически противостоят собственные энергия и сила. Таким образом, очевидно, что и род есть объединенное сущее, коль скоро в применении к нему бытие оказывается тождественным сущему, а энергия — сущности. Следовательно, объединенное в этом случае будет неотличимо от высшей степени всех сущих вещей и от умопостигаемого единства, как мы и говорили, если оно действительно неотличимо от рода, который одновременно является видом или чем-то подобным213, так же как мы не мыслим ничего более простого, чем простота единого. И это-то и есть какой-то один из определенных родов, причем уже составной, коль скоро он есть какой-то определенный род или вид, по своему своеобразию простой, в противовес и движению, и покою, являющимся в этом отношении другими. Действительно, в таком случае сущее вследствие этого самого своеобразия есть некоторым образом объединенное, причем тождественное бытию. Впрочем, оно оказывается одним из многих родов и включено в их взаимную сопричастность. Однако, кроме того, сущее будет полностью изобличено и в том, что оно не есть истинное объединенное, поскольку логически противопоставлено остальным родам, а также претерпело разделение в них; поэтому оно также является и разделенным214.
Кроме того, сущее участвует во всех остальных родах, и наоборот, так что те отчетливо проявляются благодаря ему, так же как и оно благодаря им. Итак, разве оно действительно объединено? Ведь в таком случае обнаруживается, что само единое на деле не будет единым, поскольку оно причастно другому и обособлено от него. Впрочем, сущее стремится быть тем, что оно есть, в согласии с собственной явленной своеобразной природой. Потому-то оно и считается наилучшим по природе — в смысле наглядного представления вот этой природы, пребывающей всем, а вернее, стоящей превыше всего как единая причинствующая простота, несущая все. Стало быть, в таком случае сущее как объединенное, по справедливости, более всех родов будет наглядно представлять объединенное начало всех высших сущих как единое. И в то время как правильнее всего говорить о том, что начала охватывают все и являются всем, происходящим от них, оно разворачивается в согласии с иным своеобразием — как разделяющееся и пребывающее в покое. Ведь объединенное совершенство создало его отнюдь не как объединенное, логическое противоположное разделенному. В самом деле, при таком допущении оно будет не всесовершенным, а лишь превышающим то и другое, как и все, или, правильнее говоря, вобравшим в себя все, коль скоро предшествующее всему единое, со своей стороны, не будет тем, которое обособлено от всего остального, так же как и простым, отличным от составного, но окажется похитившим себя самое в горние выси219 прежде всего — как составного, так и простого, и, разумеется, многого и противостоящего последнему единого.
Однако, поскольку мы не в состоянии связать со столь возвышенными вещами никакого понятия, мы имеем обыкновение указывать в применении к ним на что-то, в отношении чего мы это сделать можем, требуя в рассуждении прежде всего, чтобы наши мысли по поводу самодостаточности предполагаемых важнейших начал были недостойны их216. Значит, если единое является простым, то оно все равно таково именно как пребывающее среди родов и видов в качестве всего лишь своеобразия и — в смысле эйдоса — как эйдос блага, красоты или чего-нибудь еще.
Самое верное, что можно было бы утверждать,— это то, что объединенное в собственном смысле в отличие от сущего будет участвовать в <едином>217, коль скоро участие в последнем будет создавать само объединенное, так же как участие во множестве — множественное. Если это так, то сущее окажется в первую очередь причастным многому и единому, причем в большей степени единому. И если бы откуда-то взялось смешанное и имелось бы такое наличное бытие, по причине которого существовал бы любой смешанный эйдос, то высшая степень такого смешанного была бы собственно объединенным. Да почему бы и не существовать просто смешанному — если имеются некоторые определенные смешанные вещи, например человек, конь и животное,— в качестве сущности, смешанной из родов, и, вообще говоря, составному эидосу, от которого происходит бытие всего остального составного?218 Я говорю о смешанном и составном как о простом своеобразии вида или рода, которое могло бы, пожалуй, в противовес простоте как таковой, быть названо смешанностью. Впрочем, об этом позднее.
66. С трудом добравшись в рассуждении до этого начала, давайте признаемся самим себе в том, что бытие каждой вещи в действительности является сущим как сном219, поскольку сущим оказывается не только сущее, но и любой другой род,— движение как движение, а покои как покой. Ведь каждое из них — это сущность, в отношении которой речь идет об энергии и силе; пожалуй, и та и другая происходят от сущности, а то, чем является каждая вещь,— это уже энергия как наличное бытие. В отношении всех их бытие в возможности идет впереди бытия в действительности, а не следует за ним, как это имеет место среди тех вещей, которые от менее совершенного состояния переходят к более совершенному. Итак, бытие в действительности для этих родов стремится наглядно представить уже собственное наличное бытие каждого из них, в соответствии с которым он возник.
Впереди же всех этих сущих идет само простое сущее, которое является также простой энергией. В самом деле, прежде всего оно установилось в качестве собственной энергии, как предшествующее себе — в качестве силы, и как, в свою очередь, идущее впереди последней — в качестве чистого наличного бытия, причем говорится это лишь с целью наглядно представить все названное, поскольку и наличное бытие, и сила, и энергия сосуществуют друг с другом, и именно такой оказывается сущность: динамическим и энергетическим наличным бытием, сущностью в действительности и вместе с энергией. Ибо как же иначе могло бы обнаружиться бытие в действительности, если не в качестве чего-то, уже сосуществующего с энергией, так же как бытие в возможности связано с некой силой? Следовательно, бытие в действительности сводится к тому самому, что действует в соответствии с ним и первым проявляет свою энергию.
7. Соотношение объединенного и единого сущего
Кроме того, объединенными в данном случае оказываются три вещи: энергия, сила и наличное бытие, ибо они-то и есть одно лишь наличное бытие (в смысле чистого наличествования), обладающее способностью и действующее, поскольку бытию свойственно и мочь, и действовать; значит, эта триада и есть бытие как таковое. Да и чего же удивительного в том, что высший чин сущих предметов именно таков, если само сущее как род, о чем уже говорилось, похоже, находится в том же положении? Пожалуй, это верно — с тем лишь уточнением, что, хотя по характеру собственного своеобразия сущее и не просто, оно выглядит как простое единое: последнее пребывает как совершенная, предшествующая всему и нерасторжимая ипостась, в то время как в средоточии умопостигаемого все названные его части готовятся к разделению.
Таким образом, в третьем сущность впервые в некотором отношении распространяется и на силу, и на энергию. Потому-то и говорится, что ум мыслит, возвращается к умопостигаемому и царствует над умным и, вообще, надо всем тем, что от него происходит220. Впрочем, энергии в этом случае слиты с сущностью и неотторжимы от нее, пусть даже сами по себе и остаются энергиями. Ведь, право же, разве ум, будучи таковым по сущности, связан с энергией, как говорит <Аристотель>?221 Разумеется, в высшем чине сущих вещей сила и энергия поглощаются наличным бытием, будучи тем не менее чем-то одним с ним.
Потому <там> имеется не чистое наличное бытие, а уже сущность, как и было сказано выше. Но разве такое положение противоестественно, если в противном случае само наличное бытие оказывается неявным? Ведь ничто определенное там, в свою очередь, также не проявляется222, но существует единое и всеобщее слияние, превышающее все, которое мы еще не познаем, поскольку не в состоянии даже попытаться помыслить его, совершенно не допускающее такой возможности. Рискнув же мыслить его, как это положено по природе, мы его разделяем, а вернее, сами разделяемся в отношении его223. Затем мы вновь с самого начала объемлем его умом с целью наглядно представить совершенную и предшествующую всему единую вершину. В действительности же то, что мы принимаем в данном случае за таковую, не является ни сущим, ни сущностью, коль скоро оно не получает даже своей характеристики в качестве них, но выступает как потустороннее им, как и всему остальному, так что даже и не является умопостигаемым.
Итак, что же это такое? Разумеется, не единое, причем прежде всего потому, что соответствующее единое будет уже как-то определено. Если же <об этой вершине> с целью ее наглядного представления именно так и говорится, то чем же тогда третье начало будет отличаться от первого? Ведь первое такое же. Стало быть, правильнее всего говорить о предмете данного рассмотрения также только как об объединенном,— ибо разве не должно оказаться промежуточным между единым и сущим то, что можно было бы, испытывая затруднения с присвоением ему собственного имени, назвать объединенным? В самом деле, почему бы тому, что занимает по отношению к другим вещам среднее положение как их выход за свои пределы в том случае, когда они различаются в смысле общего рода, не находиться в том же положении и в случае сверхсущностного и сущности или же единого и сущего? Даже сам Платон, похоже, приняв в «Пармениде» во внимание именно это, назвал соответствующий предмет не единым и не сущим, а единым сущим — вследствие затруднений с его собственным наименованием и желая сопоставить средний член с крайними; наподобие этого и душу он признает занимающей среднее положение, когда говорит, что она находится между неделимой и разделенной по телам сущностями224, хотя сама по себе она есть единая природа, не состоящая из названных сущностей, как это можно было бы предположить225. Таким образом, и в Данном случае единое сущее оказывается не чем-то составным и равным образом не двумя вещами — идущим впереди и следующим за ним, как это полагают философы, а единой природой в средоточии единого и сущего, уже утратившей простоту единого, но еще не представляющеи собой и слияния сущего.
67. А по какой причине как о сущем мы говорим и о том, что называем всем? Почему оно — умопостигаемое, которое, словно сила причины226, предвосхитило собой и умное, и чувственно воспринимаемое? Ведь оно-то, разумеется, не есть объединенное, которое, как было сказано выше, мы мыслим в качестве еще не разделяющегося, но тем не менее противостоящего названным вещам, и в смысле наглядного представления — как того, что предшествует всему.
Почему Ямвлих, придерживаясь относительно умопостигаемого иного мнения, говорит, что оно существует подле единого и неотторжимо от него?227 Скорее всего, потому, что он осознает следующее: то, о чем мы говорим как об объединенном и о едином сущем, есть еще не подлинное сущее, но уже и не единое, поскольку располагается между ними228.
Кроме того, вслед за единым сущим <Платон> противопоставляет единому и сущность229, проведя их различение в высшем чине умного230, где он расположил также божественную инаковость. Следовательно, то, что предшествует названному, невозможно определить, с одной стороны, как единое, а с другой — как сущее, положенное в основу единого, но следует считать его составным единым сущим, причем не в смысле их смешения, а как то, что располагается между ними и оказывается как бы переходом от единого к сущему.
Безусловно, произведя это членение, <Платон> не разделил целое на единое и сущее: каждую из частей он представил как единое сущее231. И даже если он и говорит, что частями единого сущего являются единое и сущее, чуть ниже в своем рассуждении он объясняет, что ни сущего нет без единого, ни единого — без сущего. И хотя бы казалось, будто он определяет то и другое как причастное друг другу, на самом деле тем самым он стремится обозначить безымянную срединность, и ту же цель он преследует в том случае, когда говорит, что одно в душе — это неделимое, но причастное делимому, а другое — это делимое, но причастное неделимому. Впрочем, то и другое вместе взятое необходимо мыслить как единую составную природу, пребывающую некоторым образом несмешанной и простой — конечно же, в смысле делимости и неделимости.
И если бы мы имели в виду умопостигаемое само по себе, то в этом случае повели бы речь иначе — скорее всего, так же, как в том случае, когда мы говорим о познаваемости сущего. Ведь познаваемое логически противостоит познанию, сущее же является всем и ничему логически не противостоит, хотя оно и не просто единое, ускользающее от мышления: в данном случае оно будет умопостигаемым в том же самом смысле, в каком является сущим. Впрочем, и тогда сущее не становится явным, ибо оно есть все в нерасторжимости и, значит, умопостигаемое также таково232. Действительно, бытие сущим и умопостигаемым не есть иное ему, поскольку в этом случае оно вообще не могло бы быть подлинным объединенным: оно есть или все и умопостигаемое одновременно — и тогда в нем сняты наиважнейшие вещи, или же сущее и умопостигаемое — и тогда наиважнейшее и самое почитаемое более всего родственно и подобно ему. Потому-то и кажется, будто соответствующие предметы, в согласии с истиной, являются даже и не сущими. Тем не менее правильнее говорить, что это так, и <Платон> показывает это в «Федре», когда говорит о душах, стоящих на небесном своде и созерцающих наднебесное, саму лишенную цвета и фигуры и неосязаемую подлинную сущность, которую он справедливо назвал полем истины; душа питается на этом лугу — так, как если бы там была умопостигаемая сущность233.
А еще яснее <Платон> говорит об этом в «Кратиле». Ведь, связав имя Уран со взглядом вверх, причем, очевидно, с первым, он тем самым явно ведет речь о том, что видно благодаря этому взгляду, и о первом видимом, лежащем вблизи него и расположенном в вышине234.
Похоже, и Орфей, зная, что Крон — это ум, на что указывает миф о нем, как и относящийся к нему эпитет «хитроумный»235, в качестве первой сущности, питающей все и по этой причине воспеваемой, представил Ночь, вскармливающую прежде всего самого Крона, поскольку она является умопостигаемым как принадлежностью ума; ведь оракул гласит, что мыслимое питает мыслящего. По крайней мере, теолог говорит:
Крона из всех Ночь питает, а также лелеет236,—
ибо даже если Зевс и поглощает ее предшественника237, то все равно при ее посредстве и как близкого ей. Пожалуй, и совершенство объединенного пребывает в родовой муке умопостигаемого. Впрочем, довольно об этом.
68. Скорее всего, можно было бы согласиться и с противоположной гипотезой, гласящей следующее: что еще могло бы располагаться вслед за сверхсущностным помимо сущности и чем еще можно было бы назвать объединенное, как не сущим, то есть единым, обладающим свойствами, о чем говорит в «Софисте» элейский гость?238 Разве объединенное не является сопряжением всех сущих вещей и сущностей, а сущность, как и сочетание всего, едина, о чем мы уже говорили? Единое сущее будет существовать именно потому, что оно есть и объединенное, и разделенное. А если сущее выступает в качестве генады, то оказывается составным как некая единая срединная природа, причём такая, что единое в ней заняло более низкое положение, а сущее, поскольку оно является первым таковым, более всего похоже на единое. Поэтому в данном случае нелегко различить несущее и несомое239, а тем более — обладающее и предмет обладания, так как первые вещи во всех отношениях более всего похожи на предшествующие им. Следовательно, по этой самой причине <Платон> и назвал его не единым и сущим, а составным единым сущим, показав тем самым неописуемое единство объединенного сущего с самим единым, поскольку то, что они не тождественны друг другу, он подчеркнул, упомянув об одном как об участвующем, а о другом — как о предмете участия.
Впрочем, и в первой гипотезе240 <Платон> отрицает бытие единого и предполагает, что, пока оно остается единым, оно лишено бытия; однако затем он опровергает даже и это утверждение. Подобно тому как в данной гипотезе он отвергает оба эти суждения, во второй он их допускает. Таким образом, единое и сущее сопрягаются в этом случае между собой, будучи двумя241. Тогда они соседствуют как сросшиеся от природы, так что не содержат в себе никакой разлучающей их добавки, ибо в таком случае в дополнение к ним будет иметься инаковость. Лишь там, где по причине выхода за свои пределы и вследствие ослабления единства присутствует последняя, сущность противостоит единому так же, как несущее — несомому, и вот здесь-то и заключено само начало умного, поскольку последнее обладает бытием в раздельности242. По данной причине каждая здешняя вещь выступает как единое и многое, и потому в названном чине сущность пребывает чистой и в некотором смысле свободной от единого, и на этом основании возникает многое, в то время как ранее, в объединенном множестве, оно присутствовало лишь по видимости. Потому Ямвлих и указал, что умопостигаемое пребывает в едином, так как оно более всего объединено с ним и выделяется как вид в качестве либо единого, либо сущего243. Безусловно, в самом едином нет ничего определенного — ни сущности, ни умопостигаемого, ни чего-либо другого, и лишь в одном они обладают бытием — в бытии всем в слиянии. Вот это-то для <Ямвлиха> и есть подлинное умопостигаемое:
Ведь это есть все, но умопостигаемым образом,—
гласит оракул244. В самом деле, оно приводит в соприкосновение все наши мысли и созидает единую, состоящую из всех них, совершенную, нерасторжимую и действительно объединенную мысль, которая, как того желает Ямвлих, и оказывается мыслью о том самом умопостигаемом245. Если же Платон или какой-нибудь еще божественный муж показывает, что среди другого сущностью является вершина умного246, то это никоим образом не оказывается неверным. Ведь чистая сущность, согласно Ямвлиху, явлена и в этом чине247; просто тогда она, как умная, будет высшей умной сущностью, определенной в согласии с собой и простирающейся перед единым как иная перед иным — из-за проявившейся в высшем сущностной и единичной инаковости.
Впрочем, когда мы, казалось бы, вступаем в этих вопросах во многом в противоречие, мы, похоже, затеваем борьбу лишь по поводу имен. В самом деле, если сущностью мы называем ту, которая уже определена, то объединенное не будет сущностью, напротив, таковой окажется та, которая следует за ним и сделалась единым и многим; оно же само как объединенное будет единым многим. А если бы и это можно было бы в смысле вышеописанного наглядного представления назвать сущностью, то не было бы ничего противоречащего разуму и в том, чтобы предположить, что сущности, разделенной при посредстве инаковости на многое, предшествует совершенно объединенная и не связанная с инаковостью. Потому-то, в то время как инаковость еще не появилась, <единое>, похоже, еще не отстоит от сущего, а как бы слито с ним; и вот это-то и есть исследуемая срединность единого и сущего и их сращение между собой.
Самое правильное — это утверждать, что между единым и объединенным сущим располагается многое, еще являющееся здесь единым, потому что оно выступает пока не как объединенное, а как многое в качестве всего лишь единого и объединяющегося, если таким образом оно действительно причастно единому настолько, насколько это относится ко многому в его своеобразии; объединенное же находится между тем единым, о котором можно было бы сказать, что оно именно единое, и определенной сущностью.
Вместо всего этого было бы еще более правильно и согласно с истиной вести речь о том, что так называемое сверхсущностное единое не является ни сущим, ни единым, логически противоположным сущему, как противостоит несущему несомое, или же вообще логически противостоящим чему-либо,— напротив, оно находится превыше обеих частей противопоставления, так же как и того, что, как говорит кое-кто, является и единым, и сущим. Впрочем, предшествующее им обоим единое — это составное, созерцаемое в единой простоте, каково вот это единое, то же является таким объединенным, которое есть даже и не единое, но предшествующее им обоим объединенное, каково высшее единое. В самом деле, подобно тому как последнее возглавляет <единое и сущее>, в своей простоте охватив их в себе, так и объединенное охватило в себе их объединение и природное сращение между собой; оно возглавляет и единое, и сущее248, поскольку предшествует им обоим и является их единством. Итак, то, что предшествует им обоим,— единое, наипростейшее в обоих отношениях, и оно-то и оказывается просто сверхсущностным, идущее же впереди каждого из них объединенное как их природная связь вручает им обоим их самих как иное, а третьим становится их сращение в качестве уже иных друг другу. Потому-то одновременно и проявляется инаковость: как высшая — в виде двух, причем тогда она выступает в качестве предшествующего им объединенного, и как еще более высокая — в виде предшествующего двум, причем тогда она предстает в качестве единого. По этой именно причине Платон вслед за единым сущим обособил друг от друга сущность и единое уже на основании некой инаковости249.
69. Таким образом, промежуточное не является ни единым, ни сущим, но оказывается единым сущим как одна природа, предвосхитившая как объединенное то, что разделено ниже ее. Итак, пусть говорится не о том, что эта срединность — просто сущность, как и просто единое, а о том, что воображаемой серединой между ними обоими является иное, и о том, что это — единое, одновременно пребывающее сущим, как и сущее, одновременно оказывающееся единым, или же о том, что это — составное единое сущее как некое подобие слияния, предшествующего сливающимся в нем из раздельности предметам, так что оно оказывается и сущностью, и единым вместе взятыми. Ему как единому дать имя мы не в состоянии — можно сказать разве что «объединенное единое», так как в нем одновременно проявляются и единое и объединенное, и оно будет видимостью сущего. Впрочем, в нем нет ни единого как причастности, ни сущего как наличного бытия, ибо это еще не сущее и не единое, поскольку то, что предшествует объединенному, не является ни тем, ни другим, а само оказывается составным как единой простотой, предрасположенной и к тому, и к другому. Потому-то вслед за ним и от него появились собственно единое и сущее: одно — как идущее впереди, а другое — как следующее за ним; они в силу инаковости некоторым образом отстоят друг от друга, а значит, и от демиургического ума250, пребывающего всем вместе; на свет появляются все, принадлежащее к телесному виду, и водительствующая им душа, а в дополнение — присоединяющийся к ней ум. Если эти три вещи существуют в демиурге в качестве причины, то почему бы и в объединенном не быть единому и сущему, причем не из-за определенных причин? В самом деле, в этом случае существует еще не определенность, а как бы одно для них обоих причинное, подлинное наличное бытие объединенного.
8. Устройство объединенного
Я, сделав такой вывод, буду полагать, что единое, названное так ради его наглядного представления, в согласии с истиной, не является единым, следующее же за ним многое, называемое так в тех же целях, оказывается срединностью и как бы приближением его к объединенному и ослаблением первого начала в ипостаси третьего, а вершина объединенного и есть это самое третье начало, являющееся объединением всего объединенного. Действительно, вслед за ним идут разделяющееся и то, что представляет целое и части как объединенное, как будто бы кто-нибудь показал родовую муку разделения объединенного и как бы приуготовление к ней. За этой срединностью следуют основание умопостигаемого и раздельность объединенной природы; потому-то объединенные предметы там некоторым образом отстоят друг от друга и существуют не как результат остающегося в качестве какой-либо из частей — ни единого, ни сущего, как говорит у Платона Парменид251. В таком случае необходимо рассматривать умопостигаемый ум разделенным так, как это подобает умопостигаемому, то есть на объединенные вещи, причем, конечно же, не на эйдосы — за исключением разве что того случая, когда объединялись бы парадигмы эйдетических парадигм. Итак, вот какие предположения необходимо сделать в данном случае.
То, что, по всей видимости, и Платон высоко оценивал эту гипотезу252,— то есть полагал, что первое не пребывает ни тем, ни другим, второе оказывается составным как объединенным, а третье является самим по себе и тем и другим вместе взятыми,— он показал, подвергнув отрицанию в связи с первым определения «сущее» и «единое», поместив в середине единое сущее и вслед за этим выделив единое и сущее вместе с некой инаковостью, в каком-то смысле различающей и в действительности как-то определенной, поскольку в таком случае мы, хоть и с трудом, но смогли бы избежать древней апории253. В самом деле, разве первое сущее, которое, как мы полагаем, есть объединенное, можно было бы без оговорок поставить первым как сущность жизни и ума, если бы в этом случае не было никакой определенности, хотя бы связанной с тем, что жизнь отлична от ума, а сущность — от жизни? Далее, разве могла бы существовать такая определенность, если бы не было никакой инаковости? А совершенное первое объединенное — разве могло бы оно быть определенным в соотнесенности с иным? Таким образом, очевидно, что только сущность как таковая соотносится с жизнью, поскольку лишь тогда последняя наблюдается наряду с жизнью как собственным признаком и с некой инаковостью, и что подлинное объединенное — это не жизнь, не ум и не сущность, за исключением того лишь случая, когда последняя выступает как причин-отвующая в силу либо аналогии, либо видимости. Философы иногда говорят и об этом, однако только как обо всем в нерасторжимости и как о предшествующем всему объединенном превосходстве. Объединенное потому и не противостоит ничему, что является всесущим, противостоящим разделенному, располагающемуся в наших мыслях. Итак, вот что нужно по возможности иметь в виду относительно объединенного, предшествующего единому и сущности.
Если в предыдущих рассуждениях мы принимали третье начало за объединенное в качестве сущего и представляли его как двоякое: с одной стороны, как сущностное, а с другой — как единичное, то сейчас, возводя эти два взгляда на третье начало к предшествующему им обоим единому и располагая их ниже умопостигаемого, по поводу и умопостигаемого, и совершенно объединенного, и рассеянного вокруг блага мы, похоже, высказали мнение, созвучное Платоновому, а в согласии с Ям-влихом вверху расположили наисвященнейшие из умозрительных предметов. Впрочем, вышеприведенные умозаключения мы легко сведем к тем, которые были высказаны только сейчас. В самом деле, все, что было тогда сказано, относится к первому смешанному; первое же смешанное в нынешних рассуждениях было представлено как предшествующее единому и сущему подобие составного.
Четвертая часть
ОБЪЕДИНЕННОЕ КАК УМОПОСТИГАЕМОЕ
70. После того как мы, побуждаемые к этому рассуждением, совершили согласное с природой восхождение к наисвященнейшей и более всего объединенной вершине ипостаси отдельного, которая неким образом оказывается разделенной, давайте теперь, насколько мы вправе это сделать, исследуем соответствующее ей умопостигаемое.
1. Проблема познаваемости объединенного
1.1. Познаваемо ли объединенное?
Так вот, в том, что ни мнением, ни разумом, ни принадлежащим душе умом, ни мышлением с рассуждением254 объять его невозможно, так же как невозможно постигнуть его на наблюдательном посту255 ума, а также цветом ума256, при его непосредственном узрении (έπιβολή) вообще и в том, что оно не является познаваемым ни в опоре на нечто определенное, ни в соприкосновении с ним, ни каким-либо иным сходным образом, необходимо согласиться с великим Ямвлихом, придерживающимся такового мнения. Однако ему прежде всего необходимо было бы задать вопрос, будем ли мы говорить, что оно вообще-то познаваемо и его результатом оказывается то умопостигаемое, которое служит предметом мышления, причем объединенного и в единой умопостигаемой простоте предшествующего всем мыслям вообще, или же что оно непознаваемо, поскольку, как он говорит, скреплено неизреченным началом и благом, и что оно производит и порождает ум, соотносясь с ним как само благо и потому будучи вожделенным предметом устремлений этого самого ума, причем не в качестве мыслящего, а в качестве существующего257. Ведь когда этот муж, казалось бы, одновременно склоняется и к тому и к другому мнению, он, скорее, заставляет делать это нас самих, пребывающих в нерешительности в отношении соответствующего единого понятия; разум, если он в надлежащей мере искушен, будет испытывать сильное влечение к каждому из этих мнений.
1.2. Аргументы против познаваемости объединенного@
Не ходя далеко за примером, скажем: [1] познаваемо «вот это» сущее, а умопостигаемое стоит превыше его как сущее, взятое само по себе258, которому как таковому противостоит покоящееся объединенное, каковое мы полагаем предшествующим <единому и сущему>. Следовательно, оно никоим образом непознаваемо, поскольку не является просто сущим.
[2] Далее, если бы предшествующее сущности было познаваемым, то сущность оказалась бы некоторым образом познающей его — с той целью, чтобы ей вместе со знанием возвратиться к нему как к познаваемому. Однако познающее и ум — третье по сравнению с сущностью, а между ними находится жизнь, которая сама каким-то образом познает сущность, так как в дополнение к умопостигаемости в некотором смысле обладает разумностью и существует вслед за умопостигаемым. Впрочем, саму сущность также необходимо считать обладающей некой познающей частицей, поскольку она уже вышла за пределы умопостигаемого,— по крайней мере, в том случае, если умопостигаемым оказывается объединенное. Таким образом, знанию, пребывающему в уме, по природе положено при посредстве жизни обращаться к сущностии, ибо ум принадлежит именно ей, а не объединенному, и само оно не есть единое.
[3] В-третьих, если объединенное является умопостигаемым, так как может познаваться умопостигаемым умом, то оно будет находиться впереди всего иного. Следовательно, умопостигаемый ум будет познавать предшествующее ему объединенное и, значит, сам не будет объединенным. В самом деле, знание является энергией, обособленной от сущности, даже если оно и сопутствует ей259. И, вообще, познающее соотносится с познаваемым во множественной раздельности, столь великой по своему числу, что ее не могло бы возникнуть в объединенном260. Конечно же, ум, отпавший от сущности, при посредстве знания стремится вновь вернуться к ней. Однако объединенное, если бы оно познавалось, было бы не одним только объединенным, но еще и познаваемым; значит, оно оказалось бы не объединенным и познаваемое в нем пребывало бы обособленным261. А если бы на этом самом основании оно не было бы познаваемым, но обладало бы некой познаваемостью в неотделимости от всего остального, то в результате оно вовсе и не познавалось бы и соприкосновение с ним и возвращение к нему было бы всего лишь единением.
[4] Кроме того, возвращаться можно многими способами, и, по крайней мере, три из них являются первичными: в согласии с сущностью, с жизнью и со знанием262. Последний вид возвращения сам созидает нечто познающее, второй — живущее, а первый — то, что обладает сущностью и сохраняет бытие познаваемым; объединенное же предшествует всему этому. Стало быть, оно не будет связано с возвращением — ни с познавательным, ни со служащим предметом познания, ни с промежуточным между ними. Помимо этого, правильнее всего говорить, что самому объединенному по природе не свойственно возвращение, как не присущ и выход за свои пределы, коль скоро всякое возвращение является делом выходящего за свои пределы и совершается после такого выхода. То же, что пребывает таким, как оно, остается нерасторжимым, так что предшествует даже сущности и единому,— разумеется, тому единому, которое идет впереди сущности263. Вот вывод из всего этого: знание стремится описывать и постигать познаваемое, а все описываемое является эйдосом; объединенное же неописуемо и, следовательно, совершенно непознаваемо.
1.3. Аргументы в пользу познаваемости единого
Однако и в том случае, если было бы сделано предположение, что оно непознаваемо, рассуждение столкнулось бы с трудностями. [1] В самом деле, мы, похоже, уже как-то мыслим объединенное — по крайней мере, в качестве предшествующего сущности и идущему впереди последней единому; на самом же деле прежде той и другого находится нечто составное. И пусть сами мы к этому неспособны, божественный ум всецело ведает объединенное, поскольку сам он порой стремится выступать как единая природа, предшествующая сущности и единому264.
[2] Далее, подобно тому как объединенное предшествует сущности и единому, так и впереди единичного и сущностного знания идет то, которое можно было бы назвать просто знанием, и оно предшествует и тому и другому своему виду как единая природа объединенного. Ведь и что касается жизни, то, при том, что и она двоякая: сущностная и единичная265, впереди той и другой, пожалуй, будет находиться та жизнь, которая является просто таковой, словно простая ипостась; и в отношении сущности ничто не препятствует тому, чтобы вести речь о ней как о другом, обозначенном как составное: не иначе как это-то и есть простая ипостась; сущность же как таковая располагается на вершине объединенного, наподобие того как в середине находится объединенная жизнь, а в качестве третьего выступает названное объединенное знание266. Вот оно-то и есть подлинное умопостигаемое знание, умопостигаемая жизнь и умопостигаемая сущность, и каждое из них связано с умопостигаемым как общим; последнее и будет объединенным. Оракул гласит:
Ведь это все, но умопостигаемым образом267,—
что означает следующее: Все пребывает в нерасторжимости и объединенности. Следовательно, существует умопостигаемое знание, которое и есть просто знание, ибо оно не является ни единичным, ни сущностным, но предшествует им обоим или, другими словами, всем видам знания вообще. При этом разграничение единого и сущности оказывается первым; потому просто жизнь и просто сущность на равных основаниях со знанием выступают как их общность в качестве единичной и сущностной. Действительно, подобное умопостигаемое знание принадлежит простому умопостигаемому; последнее же — это то, что предшествует определенному единичному умопостигаемому, соотнесенному с сущностным268. Таким образом, при посредстве объединенного знания познается и объединенное.
[3] Кроме того, если объединенное совершенно непознаваемо, то тем более непознаваемо предшествующее ему единое. В таком случае, скажем мы, чем таинственное начало будет отличаться от вот этого единого или объединенного? Скорее всего, и они окажутся совершенно таинственными, несмотря на то что мы полагаем, что объединенное отличается от единого тем, о чем мы говорили выше.
[4] Помимо этого, и сами боги ясно указывают на познаваемость умопостигаемого, причем не только когда говорят, что оно мыслится и мыслит269. В самом деле, именно об этом, пусть даже и используя иные слова, толкуют философы, утверждая, что умопостигаемое предстоит уму, причем не как познаваемое, а как предмет стремлений, и что благодаря ему ум исполняется не знания, а сущности и целостного умопостигаемого совершенства270. Ведь Ямвлих и его последователи неоднократно высказывали подобные предположения, причем не всегда именно в таком виде: иногда они относили знание к умопостигаемому и его окружению, о чем вполне определенно говорит Ямвлих в «Халдейской теологии»271. Те же самые философы призывают в свидетели богов, приводя стихи, которые те обращают к теургу272:
Зримо умом то, что нужно во цвете его тебе мыслить.
Если склонишь ты его,— как и ум, оно мыслить могло бы,
Мыслящий нечто, и вот не его ведь ты мыслишь, но силы
Двоенаправленной мощь, что сияет умными долями.
Нет, не помысли с неистовством то умозримое дерзко —
С высшим огнем сверхума, умеряющим все неизбежно.
Только лишь то, что оно умозримо, запомни и мысли.
Ты ведь склонишься с умом и его будешь мыслить вовеки
Без напряженья: незнающий глаз отвести ты не сможешь,
Но — вознесешь ум души твой пустой к умозрения миру.
Так что познай, что уму внеположно оно пребывает273.
Ясно, что все это сказано относительно умопостигаемого и того знания, которое способно его познать, поскольку здесь предполагается, что знание, противоположное умопостигаемому,— так как такое знание излишне опирается на нечто познаваемое,— не спешит сделать умопостигаемое своим и на это способно только то знание, которое уже отбросило в восхождении к нему в простоте ради него самое себя и предпочитает быть скорее умопостигаемым, чем умным. В самом деле, в этом случае между ними нет различия, разобщающего их, и знание, будучи объединенным, стремится излиться в виде всего в само объединенное, подвергнув отрицанию определенность,— будь то свою собственную, будь то относящуюся к мыслимому, поскольку домогается оно не сущих, а не-сущих предметов. И это знание, будучи, конечно же, более всего и в самую первую очередь простым и первичным, не проводит дополнительных изысканий, поскольку по природе оно прежде всего родственно умопостигаемому и является не таким, каким оказывается умное знание, а таким, которое можно было бы восславить как подлинное умопостигаемое, связанное с нерасторжимостью умопостигаемого как такового.
Во облаченьи доспехов, во цвете, средь шумного света,
Вооружившись трезубцами, ум и душа всеоружно
Символ всеобщности оборотили к уму и не ходят
Поодиночке к огненным струям — лишь купно274
Нечто похожее говорит относительно этого знания и дарующий оракулы бог. Потому-то и не следует опасаться, что к объединенному будет применена присущая знанию эйдетическая описательность,— ведь подобное знание не является тем, которое в состоянии описать умопостигаемое, скорее оно само описывается и определяется им — до такой степени, до какой привносит в созерцание самое себя.
1.4. Обсуждение аргументов против познаваемости объединенного
71. Так что же? Не является ли это знание неким восприятием умопостигаемого и его описанием? Да ведь любое знание, зависящее от познаваемого, скорее всего каким-то образом придает самому познаваемому некую форму275, что же касается объединенного знания об объединенном, то оно возникает, вероятно, при посредстве упрощения самого себя в единении с тем, а правильнее говоря, в отказе от самого себя, как бы в растекании по нему, в попытках при посредстве собственной неописуемости достигнуть той, которая принадлежит ему, и тем самым стать умопостигаемым в самом себе, поскольку при этом само знание выступает как результат умопостигаемого.
Впрочем, и идиома возвращения не является вообще несвойственной умопостигаемому. В самом деле, даже если оно есть объединенное, все равно в нем существует что-то похожее на объединенный выход за свои пределы, оказывающийся еще и неким подобием родовой муки для выхода низшего за свои пределы. Ибо и пребывание его самим собой является как бы причиной для всякого другого пребывания собой и, стало быть, его возвращение, причем скрытое, также выступает как бы причиной возвращения как такового. Ведь, вообще говоря, объединенное оказывается потомком предшествующего ему так называемого единого, и, как это и положено говорить, оно появилось от него на свет в той мере. в какой может произойти выход единого за свои пределы; по отношению же к тем началам, которые хотя бы в каком-нибудь смысле уже стали определенными, оно еще пребывает подле единого и по природе сосуществует с ним, поскольку и на свет-то оно появилось лишь в той степени, в какой пребывает в едином и никоим образом не совершает выхода за свои пределы.
Итак, если объединенное обретает сущность в неколебимости, свойственной единому, подобно тому как это происходит при выходе за свои пределы со средним родом богов276, а с родом умных богов — в возвращении, причем именно потому, что и они проявляют себя в пребывании,— то и в нем содержится нечто первое, промежуточное и последнее — в качестве подобия причин и совершенно таинственным образом; вот это-то нечто и есть то, что, как мы говорим, пребывает собой как объединенное. Следовательно, не получается ли так, что какое-то возвращение к нему выглядит как подлинно умопостигаемая истина, а вовсе не как возвращение, связанное с мышлением,— ибо объединенное вообще не выступает как познаваемое, поскольку названные моменты в нем как бы слиты и наряду со всем остальным поглощены единством? Стало быть, то, что существует в объединенном, скорее всего является даже и не знанием как таковым, поскольку знание — это одно среди многого, происходящего от предмета познания; оно, похоже, является третьим после него. Оказывается оно также третьим и среди возвращений к нему, так как ему предшествует жизненное возвращение, а впереди того стоит сущностное, и в соответствии с ним мы говорим о сущем-в-себе, в согласии же с тем, которое было названо до него,— о живом-в-себе, а с низшим — о познающем-в-себе в смысле изречения «познай самого себя»277. Эти три вида возвращения соотносятся между собой так же, как ум соотносится с жизнью, а жизнь — с сущностью. Следовательно, знание оказывается девятым после первой сущности, кото-рои, как мы говорим, является познаваемое278.
Стало быть, разве могло бы рассуждение, посвященное объединенному, допустить наличие в нем столь значительной раздельности? Похоже, в ответ на попытки такого объяснения необходимо сказать, что сами мы не можем определиться в отношении его, поскольку в применении к нему уже отказались от знания всяческих «сколько» и «каково»279, но еще не выработали умопостигаемого мышления, так же как не имеем мы мышления и разумного, и низшего, поскольку у нас нет в чистом виде и подходящего для него логического мышления, а даже если оно и есть, то, разумеется, лишь такое, которое надеется углядеть издалека нечто истинное и только в этих надеждах достигает цели такого упования. Умопостигаемое является всем, но, как гласит оракул, умопостигаемым образом. Значит, в нем имеется вершина — как бы сущность, оказывающаяся объединением единого и сущности, причем предшествующим и тому и другой, и середина — то, что предшествует жизни и определенному в согласии с ней единому; эта самая объединенная жизнь одноименна280 двум низшим видам жизни, поскольку сама не является ни одним из них, но предшествует им. Стало быть, в таком случае есть и третье — умопо
стигаемый ум, который оказывается умом и мыслящим единым в их единстве как предшествующее и тому и другому составное; знание его не является единичным и не принадлежит зависящему от него уму как таковому — напротив, оно само предшествует этим двум видам знания как единое и объединенное, ибо находится не в каком-то ином по сравнению с объединенным положении, а в таком, каковое ему некоторым образом могло бы соответствовать. Действительно, вот такое познаваемое и выступает предметом этого знания — не единичного, не принадлежащего уму и не связанного с сущностью, а, как было сказано, объединенного. Итак, познаваемое в данном случае не есть результат ни низшей сущности, ни объединенного единого в ней — оно предшествует им обоим и благодаря лучшему является простым познаваемым, ибо выступает как принадлежность простого сущего; таково объединенное, если оно действительно не оказывается ни единичным сущим, ни чем-то, как бы несущим в себе названное единое281.
Таким образом, тождественны ли бытие объединенным и бытие познаваемым? В самом деле, в данном случае вследствие вышеназванных причин объединенное познаваемым, разумеется, не будет. Если же оно им является, то тогда почему соответствующее познаваемое не обретает определенности? Похоже, что оно как во всем объединенное испытывает нужду в бытии не определенным282, а, напротив, единым, причем вместе со всем остальным и не в возможности, а в действительности — как предшествующее всякому разделению слияние. Итак, в данном случае единое благодаря существованию познаваемого оказывается познаваемым в качестве целого — ведь и всякий эйдос познаваем как целое благодаря собственному признаку познаваемости; целым же оно выступает благодаря собственному признаку целостности, а прекрасным и благим — благодаря красоте и благу. А не оказывается ли оно также и непознаваемым вследствие собственного признака непознаваемости? Ведь, пожалуй, то, что потусторонне всему определенному, будет познаваемым в самой малой степени, а непознаваемым — в самой большой, подобно тому как порождающее вообще всегда непостижимо для того, что им порождено, и в своей простоте стоит превыше не только знания, но даже и сущности последнего. Следовательно, в нем есть также нечто непознаваемое, причем его больше, чем познаваемого, и, конечно, первое умопостигаемое, о котором мы говорим, именно таково. Стало быть, оно — это, скорее, собственно умопостигаемое, нежели познаваемое, которому по природе положено познаваться в большей мере знанием; при этом прежде всего оно непознаваемо для того знания, которое, как правило, к нему применяется, причем именно в его обычной форме.
Впрочем, ведь познаваемое и непознаваемое присутствуют как в сущем, так и в едином, а прежде них обоих — как составное — имеются они и в объединенном. Следовательно, в таком случае в нем есть и познающее — как объединение единичного и сущностного знания, предшествующее им обоим. В самом деле, подобно тому как познаваемое является объединенным, так и пребывающее с ним в одном ряду умопостигаемое знание об умопостигаемом находится в таком же положении, и даже если это знание связано с каким-либо разделением, то и последнее выступает как объединенное разделение объединенного, ибо и в этом случае первое, второе и третье пребывают в свойственном умопостигаемому положении. Действительно, если бы третье возвращалось и познавало, то что бы в этом было удивительного? Впрочем, сущности нет необходимости быть познающей по той причине, что и ей предшествует объединенное. Ибо, коль скоро в нем, согласно оракулу, все пребывает умопостигаемым образом, то оно будет заключено и в каждой определенной вещи, так как из объединенного, в согласии с его собственной определенностью, разворачивается все: и единое, и сущность, и жизнь, и жизненное единое, и ум, и умное единое; но сущность является жизнью отнюдь не по этой причине. Жизнь присутствует и в объединенном по аналогии с предшествующим тому и другому объединенным. Следовательно, сущность не является ни умом, ни познающей сущностью, поскольку в объединенном познающим оказывается третье. В самом деле, низшее познаваемое появляется от высшего, познающее — от познающего, а среднее между ними — от среднего. Итак, вот что можно было бы возразить, в согласии с названным допущением, в ответ на все эти апории283.
2. Моменты эманации: пребывание, выход за свои пределы, возвращение
2.1. Проблема разделения объединенного
72. Относительно познаваемого и знания мы еще поговорим, взяв за основу другое начало аподиктического рассмотрения, а предварим мы этот раз говор рассуждением относительно пребывания, выхода за свои пределы и возвращения. В самом деле, именно при этом рассуждении станет очевидным то, какая имеется польза от знания и что такое познаваемое. Кроме того, в связи с ним мы разберем апорию, относящуюся к существованию в объединенном каких-либо пребывания, выхода за свои пределы и возвращения. А прежде всего необходимо исследовать то, почему первое отделено от иного как иное. Действительно, первое в этом случае отделяется или уже отделено (ибо следует рассуждать и об этом), а что касается самого отделенного, то прежде него имеется то, от чего оно отделено, и в результате последнее само оказывается отделенным. Впрочем, первое разделенное, разумеется, не есть само объединенное — напротив, оно является третьим по сравнению с ним, поскольку между ними находится разделение как таковое.
Итак, каким образом первое объединенное могло бы оказаться также первым разделенным? В самом деле, именно от него отделилось первое отделенное. Так вот, правильнее всего утверждать, что по отношению к тем предметам, которые занимают равное положение, взаимная обратимость соотнесенного истинна <во всем>, поскольку лишь тогда истинной для них окажется и взаимная заместимость; в применении же к причинствующему и причинно обусловленному эта обратимость оказывается истинной отнюдь не во всем. Действительно, само обусловленное причиной не созидает причину в качестве таковой — напротив, причинствующее делает обусловленное причиной таковым, а самое себя, разумеется, его причиной. Однако даже если они и не замещают друг друга, то тем не менее пусть их отношение будет существовать как соименное обстояние, так же как равное на равных основаниях оказывается равным, или как отделенное отделило себя самое от первого в себе, хотя в таком первом вследствие этого и не возникло раздельности — наподобие того, как материальное тело отделено от нематериального самой тягой эйдоса к материи284; что же касается нематериального, то оно тем не менее проявляет себя в материальном, не претерпевая при этом разделения. Точно так же тело было разлучено душой с умом; однако разве ум не пронизывает все последующее и разве то же самое не относится к душе? По всей видимости, это верно, и тем не менее ум все равно отделен от души, а душа — от тела вследствие самого различия этих ипостасей, так что опять-таки в данном случае отделенное отделено от отделенного, пусть даже сам способ этого отделения всякий раз иной. Ведь и прекрасное является иным справедливому, при том, что и последнее оказывается ему иным; однако их инаковость в применении к тому и к другому не одна и та же — она такова разве что как род собственных признаков, поскольку эти виды, как и образованные из них роды, различаются между собой285.
Впрочем, иное оказывается иным иному не всегда286, но лишь тогда, когда и то и другое является эйдосом287. По крайней мере, последний — это иное материи, которая сама не есть иное ему, так как с ней не связана никакая инаковость. В самом деле, эта самая инаковость — некий эйдос, материя же безвидна. Таким образом, эйдос отделен от материи, а материя от него не отделена, поскольку само разделение будет эйдосом, причем возникающим только среди эйдосов. Стало быть, точно так же и в применении к высшему имеет место первое отделение эйдоса от сверхэйдетического, причем последнее остается нерасторжимым. Ведь оно, будучи именно сверхэйдетическим, не могло бы, пожалуй, обладать никаким свойством эйдетичности, какова, например, раздельность. Следовательно, отделенное отделено не от совершенно отделенного: первое отделившееся не пребывает в таком же положении, как и последнее.
Так что же? Разве не благодаря самому себе существует то и другое: одно — только как материя, а другое — только как эйдос, или, если угодно, одно — всего лишь как сущее, а другое — всего лишь как ум? Иное не является ни тем, ни другим, однако в той мере, в какой второе снизошло в раздельность природы, первое обособлено от него в превосходстве, не связанном со вторым. Действительно, и мы сами не будем отличаться в этом отношении — по крайней мере, если оставить в стороне тождественный способ разделения. Ибо бессмертное в нас отделено от смертного, а смертное — от бессмертного, и тем не менее разделение в применении к тому и к другому не будет одним и тем же, коль скоро в одном случае речь идет о бессмертном, а в другом — о смертном. В вечном же и разделение и инаковость окажутся вечными, а во временном и то, и другая будут связаны со временем288. Такое же соотношение имеют и нерожденное с рожденным, и парадигматическое с иконическим, и разумное с неразумным, ибо все в каждой вещи соответствует ее частной природе289. Следовательно, в данном случае раздельность и инаковость повсеместны, как, со своей стороны, и тождественность, коль скоро кажется, будто она создает природное сращение. Ведь в качестве живых существ человек и конь тождественны, но в каждом из них живое существо выступает как иное; поэтому и вид тождественности, каков бы он ни был, в применении к человеку и к коню в каждом случае иной: тождественность в эйдосе выступает как эйдетическая, в материи — как материальная, то есть пребывающая в возможности, а в сверхэйдетическом — как сверхэйдетическая, то есть как причина.
Впрочем, если одно среди соотнесенного пребывает в возможности, то и другое тоже, и оба они окажутся в некотором смысле в неравном положении,— ибо это одновременно относится и к бытию в действительности, и к наличному бытию, поскольку они возникли вместе. В самом деле, в таком случае причинствующее и причинно обусловленное будут сосуществовать, или же это будет относиться к бытию материи в действительности, так как ее бытие в возможности в соотнесенности с эйдосом окажется бытием материи в действительности290; то же, что выступает как причина, в этом случае в соотнесенности с эйдосом будет наличным бытием причины, вобравшей в себя в том числе и разделение. Однако если раздельность слита с ней, значит, это касается и того, что называется согласным с ней пребыванием в раздельности. Ведь если оно определено как первое и второе, то в нем уже присутствует деление; значит, в себе самом разделено и то, что, как мы, конечно же, утверждаем, является объединенным,— ибо определенная в нем раздельность вместе с собой отделяет и все остальное291. Действительно, что это за удел его такой, чтобы в нем определилась лишь раздельность родов или видов, при том, что наличие чего-то определенного в объединенном как таковом бессмысленно? Вообще же, в соответствии со всем этим мы согласимся с тем определением, что одно мы полагаем объединенным, а другое — разделенным.
73. Итак, каким образом разделено это самое объединенное? В самом деле, похоже, соответствующее суждение внутренне противоречиво; а еще более серьезная апория возникнет в том случае, если мы сопоставим объединенное с единым как появившееся от того, что производит его на свет. По всей вероятности, отличным от объединенной природы является то, что не стерпело отделения от единого, так же как и выхода за его пределы; такое объединенное, в согласии с природой, находится подле него и в нем — в бытии, принадлежащем не ему самому, а единому. Что же касается того, в отношении чего мы полагаем наличие отчетливого отделения от иного ему, то применительно к тому, что в свою очередь является иным последнему, необходимое для этого противоположное именование (αντωνυμία) раздельности повергает ее исследователей в совершенное замешательство292.
Значит, самое правильное — это утверждать, что, поскольку природа соотнесенных вещей множественна и разнообразна, существует такая их связь, что на основании взаимной обратимости можно приравнять их друг другу, и, напротив, в силу самой природы взаимно обратимых вещей не бывает такого их сходства, какое возникает в том случае, когда отличающееся отличается от отличающегося293. Впрочем, это самое отличающееся обладает различием как эйдос, материя же — безвидным, поскольку различие в этом случае касается безвидного и эйдоса. Ведь тогда и изображение созидает для себя некое соотношение со своим образцом как с подобным себе, ибо общее подобие существует как некая целостность своеобразия, но, однако, не как одно и то же в Двух этих случаях: в одном оно оказывается парадигматическим, а в Другом — иконическим. Далее, при этом и объединенное объединено с некоторым объединенным, так что если оно объединено с единым, то и само единое будет объединенным и, следовательно, не единым. Или если наблюдается всего лишь их сочетание, необходимо вести речь об объединении только как о связи, раз уж единое-то всегда стоит выше объединенного. Ведь тогда и обусловленное причиной сочетается со своей причиной не в согласии с общей природой взаимосвязи, а вследствие истинного различия, или же, по крайней мере, причина подобной взаимосвязи в обусловленном причиной заключается в самой его причине, как это имеет место в том случае, когда одна природа является причиной другой. Таким образом, с объединенным объединены в простоте и единое, и само объединенное, поскольку в этом самом объединенном и объединенное отделено от отделенного, причем именно как объединенное. Ибо все-таки существует отличие объединенного от разделенного, но при этом первое пребывает в нерасторжимости по отношению ко второму, поскольку и нерасторжимое отлично от него, хотя и отделено от него лишь в той мере, в какой само остается нерасторжимым и в какой, в свою очередь, препятствует обособлению от разделенного.
Таким образом, подобное разделение не допускает расторжения объединенного до такой степени, что сохраняет его нерасторжимым или, вернее, отделенным от отделенного; значит, оно нерасторжимо и в этом смысле. Поэтому разделение является таковым вообще — по крайней мере, тогда, когда взаимная связь представляется целостной и соответствующей имени и тому предмету, к которому такое имя относится, но на самом деле не остается одной и той же, и когда она устанавливается как раз деленное, тогда же возникает и как нерасторжимость, а когда она является раздельностью, тогда же выступает и как нерасторжимое, причем сама по себе остается именно нерасторжимостью. Вообще же, если мы даем имя самому разделению так, как будто оно является какой-то вещью среди других, необходимо иметь это в ви-ду, поскольку имена принадлежат к определенному и эйдетическому Потому-то, когда мы говорим, что материя отделена от эйдоса, логический вывод мы делаем правильный, но, конечно же, имя даем не в согласии с истиной295. Вот что нужно сказать об этом.
2.2. Апории, относящиеся к выходу за свои пределы
74. Коль скоро разделенное появилось на свет от нерасторжимого, а мы утверждаем, что всякая возникающая вещь, будучи пребывающей, совершает выход за свои пределы и вслед за тем вновь возвращается к тому состоянию, с которого начался этот выход, и поскольку мы говорим, что три соответствующих состояния — пребывание, выход за свои пределы и возвращение — следуют одно за другим, давайте выскажем связанные с ними апории, и в первую очередь вот какую: необходимо ли, чтобы появляющееся на свет возникало, располагаясь ранее в том, что производит его на свет, а до нее — еще и ту, почему мы говорим, что пребывание соотносится с причиной. Ведь оно, разумеется, не имеет отношения ни к месту, ни к порядку, ни к чему-то первому — так разве будет оно в каком бы то ни было смысле чем-либо возникшим? Ибо пусть речь у нас сейчас пойдет о выходе за свои пределы появившегося на свет, так как те же самые, что и в данном случае, выводы можно было бы сделать и о посредствующем при разделении296.
Итак, не получается ли, что причина, являющаяся первой и потому пребывающая, сама уже стала третьей297 и таким образом совершила выход за свои пределы? Это невозможно: она выступает либо как первая, либо как третья. Так не означает ли пребывание в последнем случае того, что третье не лишается своеобразия произведшего его на свет, но, сохраняя это своеобразие в себе, во главу угла ставит некий собственный признак, в силу чего и возникает, например, в случае живого существа — человек, а в применении к сущности — жизнь298. В самом деле, жизнь — это и есть определенная сущность, как и ум — таковая сущность и жизнь одновременно299. Ведь особенное всегда дополняет общее или появляется от него; стало быть, возникшее сохраняет своеобразие породившего его.
Однако если это так, то прежде всего следует говорить не о том, что возникшее остается в пределах особенного, а об одновременном с возникновением его появлении; Далее, что касается того появившегося на свет, которое мы называем общим по отношению к породившему, то либо оно само появилось на свет, пребывая собой, и так до бесконечности300, либо вообще не следует говорить о том, что возникающее выходит за свои пределы как пребывающее собой и, значит, нет необходимости в том, чтобы существовало его особенное. Если же пребывает собой его общее, тогда то, что мы называем возникшим, вовсе не пребывает собой; в настоящем же исследовании речь шла о том, пребывает ли выходящее за свои пределы. Впрочем, я вообще не допускаю разговоров относительно пребывающего, поскольку от порождающего отнюдь не обязательно появляется на свет то, что будет ему единоприродно (рассмотрение этого вопроса, приводящее к полному замешательству, мы проведем немного позднее301), хотя, пожалуй, указать на то, что находится в таком положении, будет непросто, и раз это не относится к некоторым вещам, то не присуще и всем им вместе взятым.
Стало быть, самое верное — это говорить, что появляющееся на свет, или возникшее, будет иметь свою причину в том, что производит его на свет. Не означает ли тогда пребывание в нем того, что оно связано с причиной в нем, как с корнем, из которого и произрастает? В самом деле, например, растение вырастает из земли, но в ней находится лишь его корень. Впрочем, и это сравнение, если кто-нибудь тщательно изучит данный вопрос, окажется неверным. Ибо причина не является тем же самым, что возникает под ее действием; напротив, последнее — это второе, сама же она — первое, так как в первом-то и располагается причина второго, поскольку причина появляющегося на свет будет некой сущностью производящего его и частью последнего, а не первого названного. Таким образом, здесь возникает аналогия, скорее, не с корнем, а со всем растением как предметом, являющимся целостным и обретающим сущность благодаря природе земли302. Если это действительно так, то и в нашем случае имеют силу те же самые доказательства. Действительно, ни пребывающее не выходит за свои пределы, ни выходящее за свои пределы не пребывает,— ибо того, что возникает, в порождающем еще нет, а в этом самом производимом на свет благодаря ему отнюдь не появляется какой бы то ни было причины, так как оно уже не является самой причиной, но оказывается ее следствием. Итак, нужно вести речь не о пребывании выходящего за свои пределы, а о бытии причинствующего для выходящего за свои пределы303.
Таким образом, не является ли обсуждаемый предмет таковым потому, что он возникает, в то время как <причинствующее> пребывает? Речь, похоже, идет не просто о пребывающем, а о располагающейся в нем причине. И поскольку следствие по своему виду будет тем же самым, что и причина, то в каком-то смысле и говорится, что пребывающее и есть выходящее за свои пределы; они тождественны по своеобразию и по виду, но, в согласии с истиной, не тождественны по ипостаси304.
Однако в случае допущения подобных предположений, во-первых, появляющееся на свет будет полностью отделено от порождающего, коль скоро у них нет ничего общего в смысле ипостаси, и при этом возникающие предметы не сохранят единой связи с производящими их, но будут лишь рождаться от них, словно человек от человека,— как отсеченныеЗО5.
Во-вторых, если бы появляющемуся на свет необходимо было бы пребывать в смысле целостности, но не истинности, то и данная аксиома оказалась бы не истинной, а только феноменальной, поскольку и тождество, вернее, общность этой самой связи, была бы лишь феноменальной306.
В-третьих, в данном рассуждении не окажется ничего заслуживающего внимания, если оно будет посвящено лишь тому, что первое не является вторым, так же как и второе — первым, или же тому, что порождающее не является порождаемым и наоборот, и тому, что одно пребывает собой, а другое появляется на свет и ни одно из них не находится одновременно в обоих этих состояниях.
Значит, самое правильное — это говорить, что выходящему за свои пределы не будут свойственны по отдельности ни пребывание, ни выход за свои пределы; напротив, в нем есть одновременно и нечто пребывающее, и нечто выходящее за свои пределы, и это именно то, что, как мы говорим, оказывается обусловленным причиной; в самом деле, результат природы рождающегося — составное. Именно в этом смысле и было бы, пожалуй, правильно говорить о пребывании выходящего за свои пределы: одно и то же одновременно и выходит за свои пределы, и пребывает.
Впрочем, если бы мы вели речь о промежуточном — о том, что обладает бытием в выходе за свои пределы как таковом, а не в его завершенности,— при том, что появившееся на свет уже находится на расстоянии и отстоит от первого как третье,— то разве могла бы применительно к нему идти речь о пребывании в предшествующем? Ведь в случае утверждения, что появившееся на свет не появилось, возникнет антифраза; не иначе как одно — это пребывающее, а другое — появившееся на свет: лик (кара), обратившись ввысь, затем поворачивается к низшему307.
Однако в таком случае у нас останутся в силе предшествующие рассуждения: что появившееся на свет не пребывает и что пребывающее не появляется на свет, и в дополнение мы скажем, что не вполне появилось на свет то, что, как мы говорим, обретает свое бытие в завершенности выхода за свои пределы, что не в полной мере пребывает то, что появилось на свет, оставаясь пребывающим, и что они никак не будут отличаться от возникающего в момент самого выхода за свои пределы, если только оно будет целостным в том и другом отношении. Если же то и другое пребывает, а выходит за свои пределы лишь отчасти, то разве, помимо перечисленных своих свойств, они не окажутся еще и делимыми, коль скоро имеет место и развертывание сверху вниз? Похоже, наша мысль разделяет вещи, сами по себе неделимые308; на самом деле следовало бы мыслить их так, как это должно по отношению к ним, а не так, как это положено нам. Кроме того, необходимо преобразовать человеческое мышление и приучить его упрощаться и расширяться для восприятия соответствующей им истины, насколько это возможно.
Так вот, я говорю, что появившееся на свет как целое пребывает в том, что его породило,— в качестве, конечно же, некоторым образом самого того, что появилось на свет, потому что оно более всего подобно своему прародителю и родственно ему и как бы является им самим, так сказать, в третьей мере нисхождения309. В самом деле, даже когда один эйдос возникает от другого, их различие, разумеется, проявляется как разница родственного и единоприродного и расстояние между ними не столь велико, как то, которое мы определяем для рассеянных в нашем мире предметов по отношению к ним310. Таковы ум по отношению к жизни, душа по отношению к уму и жизнь по отношению к сущности, так что узревшему это в первый момент могло бы показаться, будто последующее и есть само то, что предшествует, и в особенности это относится к ближайшему, но отчасти — и к тому, что расположено дальше, даже если бы это последующее было низшим среди возникающего от единого. Ибо ничто из рождающегося не появляется как никоим образом не принадлежащее к одному племени с тем, что производит его на свет, как постороннее ему или как то, что не объемлется его прародителем, будучи собственным для него. Если же разница в именах и различие в частных представлениях приводят к ложному предположению об их полной разобщенности, то это не имеет никакого отношения к связанной с ними истине. Действительно, в данном случае, когда речь идет о родившемся от своего прародителя как о нем самом, оно оказывается вышедшим за свои пределы, а когда оно рассматривается как происходящее от того — пребывающим, так как благодаря прародителю появляется не какой-то случайный признак появившегося на свет, а его сущность311 что же касается прародителя, то он есть само то, что без какого-либо преуменьшения следует за ним,— ведь это его законнорожденный потомок, поскольку если бы сын более всего походил на собственного отца, то из них двоих один был бы именно сыном, а другой — отцом и облик их был бы почти одинаков.
И пусть кажется, будто рождение приводит при этом к появлению чего-то принадлежащего к иному виду,— все равно необходимо четко уяснить себе, что и иные по виду вещи в данном случае по природе более родственны между собой, чем одинаковые по виду в нашем мире312. Таким образом, ум, поскольку он-то и появился на свет от сущего, будет третьим после первого, почти первым сущим, но в третьем чине,— ибо само третье и триада есть природа ума; второе же некоторым образом является всем тем, чем бы и каковым бы ни было первое, за тем лишь исключением, что в одном случае преобладает единство, а в другом — раздельность.
Вообще же, если применительно к вещам одного порядка, логически противопоставляемым друг другу, мы говорим одновременно о единстве и раздельности и о тождественности и инаковости, то в отношении порождающего и порождаемого мы тем более скажем, что они являются и иными, и тождественными друг другу, и что они одновременно и отделены друг от друга, и объединены между собой. Стало быть, о подобных вещах в качестве тождественных и объединенных подобает говорить как о пребывающих, а в качестве инаковых и разделенных — как о вышедших за свои пределы. Значит, каждая из них — вплоть до прошедших свой путь с начала до конца — как целое одновременно и пребывает, и выходит за свои пределы, но уже в большей или меньшей степени: там, где властвует пребывание, в применении к ним трудно найти раздельность, там же, где владычествует выход за свои пределы, нелегко усмотреть единство. В самом деле, в результате и мы, испытывая стремление к этому, ложно приписываем первому в выходе за свои пределы совершенную рассеянность, хотя даже среди низшего она существует не вполне.
Следовательно, всякая вещь, вышедшая за свои пределы, пребывает в рамках своей природы и в границах собственных причин. То же, что не пребывает, никогда и никоим образом не будет тем, от чего, как говорят, оно произошло313; потому-то оно и не совершило выхода за свои пределы,— ибо кто мог бы сказать, что никогда и никоим образом не сущее произошло от сущего?
2.3. Апории, связанные с возвращением
75. Итак, допустим, одно будет выходом за свои пределы, а другое — пребыванием, и пусть одно, как и было сказано, всегда сочетается с другим. Как же в таком случае к ним присоединяется и возвращение? Каково оно и какую пользу приносит тому, что вышло за свои пределы? То, что ему стоит существовать, очевидно, ибо оно, похоже, открывает обратный путь ввысь; всякий же такой путь является делом того, что уже вышло за свои пределы, так как он недоступен для того, что выхода еще не совершило: оно пока пребывает в предшествующем и у него нет нужды в возвращении к нему. В самом деле, пребывание лучше возвращения, а разве то, что владеет лучшим, может нуждаться в худшем? Таким образом, возвращение является действием вышедшего за свои пределы. Что же такое возвращение? Как еще можно было бы его назвать, если не восхождением появившегося на свет к тому, что его породило? Действительно, возвращение противоположно выходу за свои пределы; оно есть как бы его исправление и отвержение (άνάλυσις). Итак, в своем возвращении душа отвергает выход за свои пределы. Однако если это так, то в результате возвращения она уже не будет тем, что совершило выход за свои пределы, поскольку, если бы она вернулась, то перестала бы занимать подобное положение. Пожалуй, с душой случается либо одно, либо другое314; что же касается вечных предметов, то с ними происходит одновременно и то и другое, причем как одно и то же. Стало быть, разве не является собственным признаком всякого возвращения уподобление рожденного родителю, так же как для выхода за свои пределы — его превращение во что-то иное? Ведь выход за свои пределы — это что-то разделяющее, а возвращение — соединяющее и возводящее третье к первому, подобно тому как выход сводит первое к третьему.
Давайте же рассмотрим то, что мы иногда утверждаем по данному поводу. Мы говорим, что появившееся на свет возвращается, конечно же, как пребывающее в бытии вышедшим за свои пределы; следовательно, возвращающееся становится в самом себе ближе к произведшему его на свет, чем возникшее, и вслед за качеством выхода за свои пределы обретает качество возвращения,— так как и то и другое должно лежать в его основе в виде сущности; то же, что возникает раньше, всегда лучше, нежели последующее, и именно так будут соотноситься качества выхода за свои пределы и возвращения. Следовательно, в результате возвращения не происходит приближения к прародителю в большей мере, чем в результате выхода за свои пределы. Если появившееся на свет, как это было показано выше, пребывает, то разве оно испытывает нужду в возвращении, коль скоро уже достигло уподобления высшему в смысле пребывания? Если же возвращение является повторным обретением пребывания, то и оно, пожалуй, будет вот этим самым пребыванием, но следующим за выходом за свои пределы, и не укажет ни на что другое, третье, так как не создаст ничего иного по сравнению с пребыванием. Впрочем, в согласии с самим смыслом данного понятия, «возвращаться» — это нечто отличное от «пребывать». В самом деле, последнее подразумевает стремление рожденного быть тем же, что и породившее, подобно тому как выход за свои пределы означает, что .рожденное следует за породившим. Напротив, в возвращении рожденное испытывает влечение к породившему, оставаясь тем не менее самим собой, при том, что и то не покидает собственные пределы. Ведь испытывающее влечение соотносится с предметом этого влечения как одно с другим и само в результате выхода за свои пределы всегда является другим такому предмету. Стало быть, возвращение, скорее, оказывается влечением вожделеющего третьего315. Действительно, при пребывании такого влечения еще нет, ибо то, что могло бы его испытывать, пока не отличается от предмета этого влечения. Нет его, разумеется, и при выходе за свои пределы, поскольку само расторжение и разделение двух вещей направлено <вовсе не> на то, чтобы одно испытывало стремление, а другое было его предметом. <Возвращение> совершается скорее всего для того, чтобы третье, отпав от первого, позднее возжелало его вследствие страсти к исконной природе. Потому-то возвращение и не создает пребывания, но добивается того, чтобы издали вкушать от породившего его явственного предмета стремлений; поэтому выход за свои пределы прекраснее возвращения, ибо он дарует третьему саму сущность, возвращение же — лишь завершенность.
Впрочем, то, что испытывает влечение, стремится стать тем же, чем является предмет этого влечения, так что и третье мечтает стать первым, причем при возвращении оно и становится им. Но разве вследствие своего пребывания в первом оно будет первым в его собственном пребывании? А может быть, оно владело предметом своего стремления прежде выхода за свои пределы, как и после него, но уже в результате возвращения? Однако, как было сказано выше, невозможно обрести то, чем уже владеешь, причем тем более невозможно это при посредстве худшего действия. Пожалуй, при возвращении обретается не сам предмет стремления, а, скорее, его призрак, который кажется даже худшим, чем выход за свои пределы. И ничто среди того, чему доступны лучшие и более совершенные ипостась и наслаждение, не испытывает влечения к призраку, как и вообще к худшему316. Ибо такое влечение подобно тому, как если бы кто-нибудь, обладая отменным здоровьем, затем возжелал бы худшего или, достигнув созерцательной добродетели, молился бы об обретении гражданской317. Таким образом, по своему виду то, что предоставляет пребывание, и то, что дает возвращение, отнюдь не одно и то же. Действительно, и сами пребывание и возвращение — также не одно и то же по своему виду. Что же обретается в возвращении такое, чем нельзя владеть в пребывании и в выходе за свои пределы?
2.4. Проблема соотношения пребывания, выхода за свои пределы и возвращения
Естественно, к перечисленным апориям тесно примыкает и та, которая связана с исследованием, основанным на предположении двойственности пребывания. В самом деле, не только выходящее за свои пределы, но и возвращающееся при его посредстве выполняет какое-то собственное действие: последнее — возвращение, а первое — выход за свои пределы. Ибо движение также является двойственным, и одно направлено сверху вниз, а другое — снизу вверх; между двумя противоположными видами движения, как говорят сыны физиологов, располагаются два вида покоя318. Однако мы только что утверждали: возвращение не есть освобождение от выхода за свои пределы и его отвержение (άνάλυσίς) — напротив, оно присуще лишь тому, что такой выход совершило. Итак, необходимо иметь в виду или всего лишь два рода: движение и покой — если угодно, я назову их пребыванием (μονή) и путем (οδός),— или четыре: два — это путь вперед (πρόοδος) и повторное возвращение вверх (έπάνοδος), а еще два — пребывание в высшем и в низшем состоянии, причем пребывание последнего вида принадлежит тому, что в будущем совершит возвращение, а первого — тому, что в дальнейшем выйдет за свои пределы.
Так что же это за обсуждавшееся много раз разделение трех вещей: пребывания, выхода за свои пределы и возвращения? Пожалуй, кто-нибудь может выдвинуть предположение, что они выделены применительно к первому единому как три вида соотношения с ним: «в нем», «от него» и «к нему»319; ясно, что такое разделение связано с тем, как каждое из них обретает свое своеобразие. Однако в ответ на это я скажу, что единое двойственно: одно — это высшее, а другое — низшее. В самом деле, и в низшем его виде нечто пребывает собой, благодаря ему побуждается к возвращению и в выходе за его пределы простирается вовне. По отношению к каждой вещи320 пребывание оказывается средоточием, и туда, откуда совершается выход за свои пределы, происходит также и возвращение.
По справедливости, к данным вопросам примыкает и следующий. Если возвращение двойственно, и одно означает возвращение чего-то к самому себе, а другое — к предшествующему ему, то что привносит каждый его вид в сущность возвращающегося и в чем они различаются? Далее, если где-то происходит возвращение второго вида, то имеет ли место также возвращение первого вида? Кроме того, почему бы и выходу за свои пределы, и пребыванию не быть равным образом двойственными — в одном случае в смысле пребывания в лучшем и в самом себе, а в другом — в связи с выходом за пределы лучшего и за пределы себя самого? Ведь если эти три энергии всегда занимают равное положение321, то в каком находится одна из них, такое же присуще и остальным.
Точно так же пусть будет рассмотрено и то, не возникают ли все остальные энергии, если где-то появляется одна из них, так же как и то, присущи ли все три энергии только третьему, или же с третьим связаны все три, со вторым — две: пребывание и выход за свои пределы, а с первым — одно лишь пребывание. Ибо, похоже, что собственным делом первого является пребывание, второго — выход за свои пределы, а третьего — возвращение, поскольку оно уже совершило такой выход. Итак, давайте, начав определение их собственных признаков с высшего, рассмотрим то, что нам открылось, и — о если бы бог привел нас к истине!
76. Итак, пребыванием оказывается природа первого, слитая с третьим, выходом же за свои пределы — отпадение третьего от первого. Ни то, ни другое не является чистым: отпадение не пребывает пустым и оторванным от собственной причины, а природа первого, заложенная в третьем, не отвергла выхода за свои пределы полностью и одновременно не допустила окончательного изменения появившегося на свет и того, что называется его переходом в другой род. Однако из этих двух подобий стихий образовалось третье как законнорожденное дитя первого и как то, что в собственной изменчивости содержит названную природу. Возвращение же является состоянием и обликом третьего, рассматриваемого как таковое, а не как пребывающее и не как выходящее за свои пределы; скорее всего, оно есть единство этих двух стихий322, так же как и собственно возращение выходящего за свои пределы к пребывающему, благодаря которому возникает слияние этих стихий и в результате которого появляются еще и сам характер и вид третьего. Потому-то возвращение и есть действие, присущее одному лишь третьему; впрочем, оно также называется дарующим собственное качество и возводящим появившееся на свет к пребывающему, так как выходящее за свои пределы в третьем приходит к незыблемому в нем, а само третье — к первому, поскольку вышедшее за свои пределы в качестве пребывающего располагается в первом.
Ты видишь, что в третьем, в согласии с его сущностью, эти три подобия стихий323 слиты между собой, что они как три образуют некое целое и, конечно же, действуют в отношении его трояким образом: как пребывающее в себе, как выходящее за свои пределы и как возвращающееся к себе. Ведь это — три стихии его сущности, и каждая из них воздействует на целое и друг на друга вместе взятых. Итак, целое и части остаются собой вследствие стихии пребывания, в свою очередь появляются на свет вследствие стихии выхода за свои пределы, а возвращаются к себе вследствие стихии возвращения. Стало быть, третье одновременно и пребывает в себе — как заложенное в нем собственное свойство пребывания,— и уходит от самого себя, и возвращается к самому себе.
Впрочем, конечно же, эти три стихии, как говорят, сохраняют свое значение и в отношении первого. В чем же здесь отличие? Скорее всего в том, что отделение третьего оказывается двояким: от первого — поскольку оно принадлежит именно третьему, и от самого себя — поскольку это третье в самом себе оказывается множественным и становится не просто третьим, а триадическим — как явленная в нем триада. Однако всякая триада есть также и монада — та, которая во всех отношениях предшествует этой триаде. Поэтому в качестве последней третье выходит за свои пределы, в качестве монады пребывает в самом себе, а как единство триады и монады — возвращается к себе И если бы кто-нибудь говорил что-либо подобное, то он не слишком отклонился бы от истины, поскольку в этом третьем триадическое оказывается причиной возвращения (ибо возвращение — это третье), диадическое — выхода за свои пределы (так как выход за свои пределы — второе), монадическое же — пребывания (поскольку пребывание среди трех обсуждаемых вещей оказывается первым). Итак, вот иное рассуждение. Что же касается первого, то оно пребывает в себе, поскольку никак и никоим образом не отстоит от себя и возвращается к себе, ибо отстоящее в названном возвращении уже соприкоснулось с неотстоящим.
Стало быть, является ли его возвращение одним или двумя: к самому себе и к тому, что ему предшествует? Похоже, по тому, что лежит в его основе, возвращение одно, а по самому сочетанию названных предметов их два324. В самом деле, в той мере, в какой, как было сказано, третье при возвращении охватило самое себя в завершенности, оно вернулось к себе; в той же мере, в какой оно установилось как целое, само по себе законченное и совершенное, оно уподобилось тому, что ему предшествует, поскольку последнее прежде него является само по себе совершенным и владеет некой собственной частной природой, так как третье создало себя самое в соотношении с тем самым первым (ведь именно это в каком-то смысле и есть возвращение), а в первую очередь потому, что рожденное было создано таким, каким его пожелало создать породившее его. Следовательно, благодаря самому своему возникновению то, что есть, одновременно совершило возвращение и к самому себе, и к предшествующему ему.
Выход же за свои пределы подобен возвращению. Действительно, само то, что есть, появляется и от самого себя — как разделенное в самом себе, и от предшествующего ему,— ибо то, что есть, существует и как то, и как другое, поскольку и возникло оно и как то, и как другое; впрочем, оно появилось еще и под действием причины, но в качестве составного, так как это самое возникшее есть все то, что оно есть, именно как составное,— поскольку его обособление от первого произошло в согласии с третьим разделением, а явило оно себя как разделенное в себе.
Стало быть, точно такое же и пребывание: в положенном в основу оно одно и то же и лишь во взаимной связи оно различно. В самом деле, то, что никоим образом не отстоит от своей причины, и самое себя созидает таким же: никоим образом не отстоящим от самого себя. Следовательно, благодаря одному и тому же началу незыблемости оно пребывает и в самом себе, и в предшествующем; благодаря одному и тому тке началу выхода за свои пределы оно отделяется и от самого себя, и от того, и точно так же благодаря началу возвращения оно возвращается и к самому себе, и к тому325. Такова третья стихия, благодаря которой стихия выхода за свои пределы связана со стихией пребывания. Стало быть, из этих трех стихий и образовано появившееся на свет, причем не потому, что оно всего лишь возникло, а потому, что оно является вот этим возникшим, например умом. Впрочем, эти три стихии присутствуют не только в том, что уже возникло, но и в том, что еще только возникает; есть они и в том пребывающем собой, которое имеется прежде выхода за свои пределы, однако в нем они слиты и нерасторжимы. В третьем они разделены, а в промежуточном находятся в среднем положении и еще только разделяются.
77. Однако если они как нерасторжимые присутствуют даже в первом, то разве правильно было бы утверждать, будто первое пребывает? Скорее всего, не стоит говорить, что оно обладает стихией незыблемости,— ибо, в согласии с истиной, оно не владеет ей как определенной. И точно так же не следовало бы по аналогии с третьим или, конечно же, со вторым, говорить о нем как о выходящем за свои пределы. Действительно, о последнем речь могла бы идти только применительно к возникшему и к находящемуся в становлении; первое же, в согласии с истиной, не есть ни то, ни другое — ведь в нем эти стихии еще не разделены. Стало быть, в третьем они уже полностью отделены друг от друга и, следовательно, именно третье прежде всего и пребывает, и выходит за свои пределы, и возвращается к тому, что ему предшествует. Однако при этом происходит возвращение к ближайшему соседствующему, каково второе во всей присущей ему изменчивости и в таком состоянии, которое свойственно разделяющемуся; в согласии же с ипостасью нерасторжимого и первого происходит возвращение к самому высшему. Ведь, скажем, ум обладает тройственным соотношением с жизнью, как и с сущим326,— в соответствии со своим возникновением от него. Впрочем, об этом в свой черед.
В первом же, которое возникло третьим, появляются все три означенные стихии, пронизывающие все последующее. О третьем я говорю здесь вот в каком смысле: если эти три стихии появились в первом уме, то они присутствуют и во всяком уме вообще; тем не менее в высшем преобладает пребывание, оформляющее все остальное, в последнем — возвращение, а в промежуточном — выход за свои пределы. Потому-то во всякой умной триаде первое — это более всего неколебимое, второе — скорее покидающее свои пределы, третье же — в первую очередь возвращающееся.
Вследствие этого двойственность пребывания нельзя понимать никак иначе, коль скоро оно есть совершенная неотделенность от порождающей причины и от ее природы, а возвращение — это охват собственной ипостаси в следующем за пребыванием состоянии завершенного выхода за свои пределы, и именно в нем одно и то же оказывается и возникшим, и не возникшим, причем последние два его состояния не разделены, но при его собственном возвращении появляется нечто составное. В самом деле, разве будет третье, являющееся как целое чем-то описанным, обладать незыблемостью, оказывающейся иной по сравнению вот с этим возвращением или с этим выходом за свои пределы? Да разве, если бы это было не так, она не оказалась бы иной даже по отношению к тому, что возникает от высшего и вслед за ним? В самом деле, то, что в своем виде и чине производит на свет последующее, пожалуй, благодаря сопутствующему его сущности пребыванию обладает собственной неизменностью. Значит, если это не так, то вообще нельзя вести речь о том, что производящее на свет пребывает собой, а необходимо говорить, что появляющееся на свет находится и в том, что его производит, и в себе самом, или же следует рассматривать пребывание порождающего собой как отсутствие его собственного выхода за свои пределы, одновременного с присущим порождаемому.
Так что же? Подобное целое не возвращается к первому? Или оно все-таки будет совершать возвращение? Скорее всего, если бы оно в первую очередь возвращалось к своему прародителю, то ему было бы необходимо быть возникшим, но не пребывать собой, так что получилась бы апория. И если бы кто-нибудь говорил, что оно пребывает собой при окончательном возникновении, то он тем самым высказывал бы лишь то, что одно и то же пребывание укрепляет и усиливает такое возникновение, причем оно не противостоит выходу за свои пределы и возвращению, коль скоро даже «возвращаться» означает «выходить за свои пределы»,— ибо возвращение в свой черед оказывается неким перемещением, хотя и происходящим отнюдь не вследствие какой-либо внешней причины327. А вот если бы кто-нибудь предполагал в каждой из этих вещей участие во всякой другой, поскольку и само незыблемое нисходит в третье, а раз оно нисходит, значит, и возвращается, и в таком случае выход за свои пределы уже подразумевает некое начало возвращения, а раз возник выход за свои пределы, то и возвращение будет иметь нечто незыблемое, коль скоро ему принадлежит стихия выхода за свои пределы, так вот, если бы он высказал подобные предположения, мы бы охотно согласились с ними. В самом деле, тогда эти три вещи, относящиеся к одному чину, взаимно участвовали бы друг в друге и апории не возникло бы, так как не произошло бы разделения собственных черт наличного бытия328; следовательно, пребывание для низшего будет лишь участием в том, которое принадлежит высшему.
Какова же разница между этими тремя вещами? Ведь слова «выходить за свои пределы» и «пребывать» логически противостоят друг другу, поскольку обозначают соответственно возникновение и нечто отличное от него. Разве может существовать в применении к ним взаимная обратимость? Скорее всего, она возможна лишь потому, что выход за пределы означает всего лишь отделение и изменение и некое общее ограничение еще не создает в нем какого-то соединения и слияния собственных признаков; поскольку возвращение привнесло от себя именно это, оно и заняло свое положение. Таким образом, идиома выхода за свои пределы указывает на отличие одного от другого и на изменчивость, идиома пребывания — на порождающий эйдос, а идиома возвращения наглядно представляет порождаемое. Причастно ли порождаемое порождающему и каким именно образом или же вовсе непричастно, мы рассмотрим ниже. Сейчас же необходимо только определить взаимное расположение этих состояний, а именно то, что два из них — это как бы пределы, третье же — середина. Действительно, то, что есть, пребывает собой в производящем его на свет, а возвращается оно как порожденное; при этом происходит переход от одного состояния к другому.
2.5. Эманация и умопостигаемые объекты
78. После того как были даны такие общие определения, давайте применим их к соответствующим предметам. В самом деле, каждое среди названного — и пребывание, и выход за свои пределы, и возвращение — делится натрое, поскольку является сущностным, жизненным или познавательным.
Действительно, ясно, что можно совершить возвращение в познании, поскольку имеется то, что познает как самое себя, так и предшествующее себе. То же, что возвращение возможно и в сущности, показывает сама необходимость существования чего-то самостоятельно возникшего, а не только того, что образовалось благодаря иному. Ибо если нет ничего самостоятельно возникшего, то мы либо уйдем в бесконечность, либо будем вынуждены предполагать наличие среди того, что возникло благодаря иному, чего-то следующего за внеположным ипостаси вообще, поскольку оно не возникло ни благодаря иному, ни благодаря самому себе329. Бросив беглый взгляд на то, что происходит от самого себя, мы, разумеется, сочтем его по своей природе промежуточным между подобными вещами, точно так же как мы согласны с тем, что самодвижное располагается между неподвижным и движимым иным330. Ведь если мы считаем то, что возникло благодаря иному, лучшим, нежели то, что появилось вследствие самого себя, стало быть, конечно, будет существовать и то, что хуже его, что, в согласии с истиной, можно сказать о телесном. Так вот, коль скоро есть худшее, необходимо иметься и лучшему по природе. Впрочем, то, что такое самогипостазирующее, в каком смысле оно есть сущее и в каком чине появляется, мы будем обсуждать ниже. Так вот, соответствующее созидание самого себя и будет возвращением к себе в сущности. Следовательно, по тем же самым причинам будет иметься и само по себе живущее, которое дарует жизнь самому себе. И то, что нечто будет получать жизнь не только от иного, указывает нам на названные три вида возвращения к самому себе.
А как обстоит дело с возвращением к первому? Да ведь возвращение к нему третьего становится познавательным, потому что одно познает другое; оно оказывается также жизненным или сущностным, причем, пожалуй, вполне явственно. В самом деле, выше мы говорили, что третье, когда оно возникло, установилось само по себе и обрело в самом себе собственный предел; тем самым оно уже совершило возвращение к первому, однако при этом заняло свое положение в третьем чине, в то время как то — в первом, поскольку первое — просто сущее, а третье — просто ум. И, подобно тому как первое есть объединенная сущность, третье — это ум, оказывающийся соединенным, причем именно таким способом, который подходит ему, а не сущему. Потому-то ум, вступив в собственные пределы, приспособился к первому явленному пределу всего; так вот, это-то и есть сущностное возвращение ума к сущему. А каково могло бы быть его жизненное возвращение? Скорее всего, в то время как за сущим следует жизнь, непосредственно примыкающая к нему, то, что возвращается к сущему при посредстве жизни, устремляется к такому соприкосновению с ним, каким обладала прежде всего остального сама жизнь. Следовательно, сущностное возвращение делает возвращающееся подобием самого первого, жизненное — всего лишь непосредственно соприкасающимся с ним, как это свойственно самой жизни, познавательное же устремляется к первому издалека, из третьего чина; и вот это самое возвращение третьего как третьего, или же ума как ума, является вечным. Ведь расстояние между умом и сущим, как и между познающим и познаваемым, весьма велико, ибо видящее здесь находится очень далеко от видимого. Жизнь же — это почти сущность, она непосредственно следует за ней, и живущее не ушло далеко от того, что обладает сущностью331. Впрочем, об этом мы поговорим позднее, причем весьма скоро.
79. Сейчас же мы сосредоточим свое внимание на возвращении ума к сущему и третьего — к первому; мы также рассмотрим возвращение третьего ко второму, а ума — к жизни. В самом деле, ум познает и жизнь, если только познает сущее, причем сходным образом, однако в этом случае сам он оказывается в ее пределах, каковые и есть ее сущность и в соответствии с каковыми ум становится разумной жизнью, так же как в уподоблении сущему он превращается в разумную сущность и как, в согласии со своим собственным, третьим, своеобразием, он пребывает умом как таковым. Ведь, по-моему, он мыслит себя умом, пребывающим третьим и выступающим в своей целостности в трех обличиях: сущего, живущего и мыслящего, и при этом одновременно объединенным, разделяющимся и уже разделенным332. Итак, в том отношении, в котором он принадлежит жизни, и в том, в каком он разделяется, насколько возможно в уже раздельном существовать еще только разделяющемуся, он уподобляется жизни и как бы приходит к ней; вот это-то и есть его сущностное возвращение к жизни. А каково будет его жизненное возвращение к ней? Скорее всего, в пределах жизни он может сделаться чем-то иным и стать самой жизнью. Так вот, будучи иным ей и пребывая в качестве самого себя, то есть того, что может соприкоснуться с жизнью как третье со вторым, он, скорее, живет, нежели является самой жизнью, и стремится к ней, но еще не становится ею самой.
Пусть же будет признан у нас подходящим во всех случаях вот этот описанный путь для всех трех возвращений, когда бы они ни имели место, чему бы ни принадлежали и на что из предшествующего ни были бы направлены333. Действительно, возвращающееся возвращается к каждому из предшествующих ему предметов, находятся ли они близко или далеко, и уподобляется всему тому, к чему оно возвращается; на деле это происходит либо в согласии со сливающимися с ним и исходящими от того, к чему оно возвращается, собственными признаками плером или стихий того — обретающими общую сущность вместе с тем, что их воспринимает, или привходящими как-то иначе,— либо в соответствии с различными состояниями наличного бытия в самом возвращающемся, собственными для него и не приходящими свыше334; иным способом это оказывается возможным благодаря тем самым, устанавливающим аналогию, природам изначальных вещей, к которым и совершается возвращение при посредстве аналогии335. В самом деле, уже предшествующее рассуждение, похоже, подразумевало оба названных способа, иногда — в понятиях возникшего и третьего — уподобляя ум сущему, а иногда — в связи с присутствующим в нем объединяющемся — возводя это самое последнее к предшествующему ему объединенному (здесь я говорю о соединяющемся в сущем).
Обсуждение того вопроса, верно ли хотя бы одно из этих суждений, или ни одно из них не является правильным, или истинно какое-то другое, или же это касается всех названных «как?» и «почему?», я отложу на потом, до рассмотрения сопричастности. Сейчас же я кратко определю, что бытие самим тем, что есть, отлично от уподобления другому в качестве того, чем является соответствующее другое. Например, ум есть тот, который пребывает — благодаря самому себе — таким, какой он есть; в возвращении к самому себе он воспринял самого себя сущностным, жизненным и познавательным образом. Однако и от жизни появляется то, что оказывается умом, и все то, чем такой ум обладает сам по себе, берет свое начало с нее. Так вот, как весь и целый, ум совершил возвращение к своей причине — и не потому, что принадлежит самому себе, а потому, что является результатом этой причины. Итак, ум стремится прийти в соприкосновение с порождающей его причиной, стать, насколько это возможно, ею самой и созерцать ее, располагающуюся превыше его и обособленную от него. В таком же соотношении он находится и с сущим, и со всем тем, что его порождает, даже если подобных вещей множество, причем с любой из них он соприкасается одинаковым образом336.
2.6. Десять вопросов по поводу эманации умопостигаемого
80. Разум, пребывая в этом случае в затруднительном положении, в первую очередь требует ответа на тот вопрос, почему мы разделили каждую из этих вещей — я говорю о возвращении, выходе за свои пределы и пребывании — только на три части и ведем речь о них как о сущностном, жизненном и познавательном. В самом деле, можно было бы выделить и такую триаду: нерасторжимое, разделяющееся, разделенное337, или же такую: единичное, множественное и нечто среднее, которое и можно было бы назвать объединенным338. Эту проблему вообще можно было бы рассмотреть множеством способов — ведь в каждом космосе имеются свойственное ему пребывание, выход за свои пределы и возвращение; как собственные для него и паронимические названным, они присутствуют и в каждом виде, а не только в трех перечисленных — в уме, в жизни и в сущем.
По этому поводу, пожалуй, можно было бы высказать недоумение и спросить: что это за триада такая и откуда взялось логическое противопоставление ее членов? — ибо, например, знание противостоит познаваемому и в таком случае, если угодно, пусть нечто среднее будет одновременно и познающим, и познаваемым; однако оно — еще не жизнь, как и познаваемое, вообще говоря, не есть сущее. Ведь познаваемо так же и многое другое, например любой эйдос; значит, и ум оказывается познаваемым339. Стало быть, почему же в качестве познающего он противостоит как предмету познания именно сущему? Разве сущность противоположна уму, и потому в итоге жизнь мы должны расположить между ними? А если жизнь есть движение34°, то каков будет противоположный последнему покой? Действительно, либо ум проявляет себя также вне этого логического членения, либо сущность в покое является той же самой, и тогда ум вновь внеположен этой антитезе341.
Так вот, во-первых, как я и говорил, следует прийти в недоумение по поводу этого самого триадического деления342.
Во-вторых, непонятно, всегда ли возвращающееся является третьим, что, похоже, рассуждение подразумевало с самого начала. В самом деле, было сказано, что возвращение является делом третьего по отношению к первому и при этом второе также будет возвращаться к предшествующему ему, поскольку было высказано и то предположение, что ум возвращается к жизни, находящейся непосредственно над ним, а значит, можно было бы считать, что и жизнь возвращается к сущему, хотя мы и говорили о том, что она еще не есть то, что возникло в завершенном виде, и не нуждается в возвращении.
В-третьих, вслед за изложеным необходимо выказать недоумение и в том вопросе, стоит ли рассматривать трояким образом — как сущностное, как познавательное и как жизненное — не только возвращение, но и пребывание и выход за свои пределы, при том, что один вид каждого среди перечисленного подразумевает происхождение от самого себя и пребывание в себе, а другой — то же, но от предшествующего и в предшествующем.
В-четвертых, почему, в то время как в познании существуют три момента — познающее, познаваемое и само знание в применении как к сущностным, так и к жизненным возвращениям их никоим образом нет? А если бы они в каком-то смысле имелись, то чем бы были тогда?343
В-пятых, почему самопознаваемым оказывается то, что познает самое себя, так же как саможивущим и самосущим — то, что позволяет Жить и существовать самому себе? Ведь собственным признаком каждого вида возвращения необходимо назвать только склонение себя к самому себе, а, скажем, не животворение, поскольку последнее — это собственный признак либо самой жизни, либо чего-то, ее созидающего, а вовсе не возвращения, которое желает всего лишь того, чтобы нечто возвратилось к самому себе. Точно так же нечто, дарующее сущностность, является иным возвращению. Ибо знание о самом себе не есть Дарование качества познаваемости или созидание чего-то познающего, хотя, казалось бы, и оно, так же как и названные предметы, возможно только в виде некоего созидания.
В-шестых, к вышесказанному, разумеется, можно добавить вот еще какой вопрос: почему познавательное возвращение к ранее возникшему совершается на равных основаниях с возвращением к самому себе — ибо нечто познает как одно лишь названное, так и себя самое именно в возвращении,— а жизненное и сущностное происходят отнюдь не так? В самом деле, то, что возвращается к самому себе, дарует самому себе сущность и жизнь, но, однако, никоим образом не совершает ничего подобного в отношении предшествующего344.
В-седьмых, необходимо исследовать, каким именно образом нечто познает то, что предшествует ему. Узнает ли ум это предшествующее благодаря познанию самого себя, подобно тому как благодаря помещению самого себя в собственные границы он делает свою сущность подобной сущности производящего его на свет, как мы и говорили, и подобно тому как он в своей сущности в результате появления на свет возвращается к тому, что его породило? Благодаря ли познанию этого самого появления на свет, каковое является действием его собственной природы, он узнает природу того, что произвело его на свет? Скорее всего, напротив, отбросив собственную природу, он взамен воспринимает ту и, однако, говорит, что та превышает эту, поскольку делает вывод об их различии. Если это так, то познавательное возвращение превосходит сущностное коль скоро последнее совершается в определенности возникающего, а первое — в определенности производящего его на свет.
В-восьмых, какова цель познания и что появляется у познающего благодаря познаваемому? Эйдос ли познаваемого, оказывающийся в познающем, или ранее присутствовавшее в познающем в возможности, а вследствие познания становящееся сущим в действительности? И чего в этом священного или полезного?346
В-девятых, заслуживает рассмотрения и то, воздействует ли как-то познающее на познаваемое347 или лишь последнее — на первое348. В самом деле, в первом случае можно было бы задать вопрос о том, каким образом худшее по природе и обусловленное причиной влияет на лучшее и причинствующее. Что же касается познаваемого, то в действительности оно может быть и лучше познающего, и хуже.
Наконец, в-десятых, на основании всего сказанного необходимо рассмотреть, чем оказывается само знание, чем — познаваемое и чем — познающее и соответствуют ли они только третьему, или также второму, или даже первому — в той мере, в какой оно первое. Ведь и первый ум является познающим, ибо таков любой ум. А коль скоро он возвращается к лежащему превыше его, в отношении жизни и сущности необходимо высказать недоумение по поводу того, чем именно при таком возвращении будет каждая из них и в чем будет их отличие от самого знания.
2.7. Ответ на десятый вопрос
81. Ну что же, давайте теперь рассмотрим, перебрав предложенные апории в обратном порядке — от последней до первой, то, что нужно сказать в ответ на каждую из них.
Так вот, сущность, которую мы сейчас противопоставляем жизни и знанию, как мы скажем, не является ни этой самой жизнью, ни знанием. Действительно, если бы все эти три вещи занимали одно и то же положение как виды, как роды, как части или так, как еще можно было бы их назвать, то ничто не препятствовало бы их причастности друг другу. На самом же деле мы хотим сказать, что первое — это сущность, второе — жизнь, а третье — знание, и одно является причинствующим, другое — причинно обусловленным, а третье — составленным из одного и другого. Следовательно, предшествующее не будет причастно последующему, и, значит, превыше того, что обладает знанием, будет располагаться жизнь, а над ней — сущее и сущность.
Кроме того, мы утверждаем, что они не являются ни какими-либо видами или родами, ни частными ипостасями, ни теми началами, которые следуют за первыми, как это обозначают сами их имена, а выступают как всеобщие космосы, причем как первые среди всех представляющихся соименными или одноименными им, каковым нам теперь кажется первый ум, поскольку как раз он и охватывает все умные устроения. Стало быть, предшествующий ему космос является целостной жизнью, которая в таковом качестве исполнена всем тем же, чем полон ум как таковой349. Следовательно, и сущность, о которой идет речь, является Целостным космосом, важнейшим среди всех и самым всеобъемлющим среди тех, которые носят подобное имя. Значит, не будет ничего удивительного и в том, что ум причастен жизни и сущности, каковым бы ни показалось тем, кто находится вдалеке, это самое участие. Жизнь же, пожалуй, не будет причастна знанию, поскольку оно является отличительной чертой третьего и ума или, вообще говоря, появившегося на свет. А сущность, вероятно, не будет обладать ни знанием, ни жизнью и не будет ни возникшей, ни возникающей, поскольку с таковым как с промежуточным соотносится именно жизнь. Следовательно, сущность есть совершенный космос, собравший все в нерасторжимости, ум — совершенный космос, образовавшийся в раздельности природы, жизнь же — совершенный космос, находящийся в промежуточном состоянии — в процессе разделения и в муках по рождению всего.
Действительно, первый космос сам по себе неохватен и как таковой содержит в себе все; третий сам по себе служит предметом охвата, поскольку уже возник и объял в самом себе все то, что вышло за свои пределы и оказалось разделенным; промежуточный же, соответствующий жизни, не заключен в неохватном и одновременно не существует и в ограниченном, но пребывает сразу как бы в двух состояниях, точнее, в движении от одного состояния к другому; потому-то его и называют жизнью (ζωήν) — ведь он как бы возбудился и стал как бы кипящей (ζέουσαν) сущностью350. В самом деле, эйдетическая жизнь, присоединяясь ко всякому эйдосу, привносит в него это самое кипение и возбуждение, ибо при их посредстве неподвижная природа сущего, низринувшись вниз, отчасти разрушает свою сплоченность и нерасторжимость и демонстрирует некий выход за свои пределы и какой-то вид раздельности. А уже появившись на свет, разделившись и обретя в собственном эйдосе соответствующую раздельности завершенность, она тем самым разделила и довела до законченного состояния в самой себе то, что ранее было более всего общим и важнейшим. Ведь в данном случае возникла не разделенность на все вещи, а та, которая ближе всего к единому, то есть, вообще говоря, первая раздельность первых вещей. Потому-то, после того как произошло обособление от предшествующего и от самого себя (ибо <умное> разделено и в самом себе), под рукой оказалось знание как некое исправление и ослабление этой обособленности. В самом деле, знание присуще тем предметам, которые разлучены либо между собой, либо — в силу разграничивающей инаковости — сами с собой; без этой инаковости одно не было бы познающим, другое — познаваемым, а третье, посредствующее,— знанием351.
Стало быть, они, естественно, возникли в вышедшем за свои пределы и разделенном, подобно тому как здесь же обрели свое начало и все другие определения, и все те иные посредствующие связи, которые сопряжены с раздельностью. Итак, соответствующие связи обладают в себе чем-то, устанавливающим их, знание же в первую очередь приводит познающее в соприкосновение с познаваемым. Ведь познаваемое простирает себя к познающему в истинной любви, и благодаря сиянию (άστράπη), нисходящему от одного к другому, в нем оказывается заложено познаваемое. Вот это-то и будет познавательным возвращением вышедшего за свои пределы к тому, что его произвело на свет, совершающимся потому, что иное отделено от иного, ибо, когда не существует инаковости, нет и знания352, так что сущность, пожалуй, не будет познавать ни саму себя, коль скоро она является совершенно объединенной, ни другое, поскольку никак от него не обособлена — по крайней мере с тем, чтобы обрести в себе нечто познающее, познаваемое и само знание353. О жизни же в связи с расположенными по обе стороны от нее предметами говорится как об умопостигаемой и умной, причем ни той, ни другой в чистом виде она не является, но если она еще только претерпевает разделение, то связана и со знанием, и с познаваемым, и с познающим,— но не как с уже обособленными, а как с еще только обособляющимися, то есть как с появляющимися на свет354. Следовательно, первое знание находится в первом уме, коль скоро именно в нем содержится первое описание как его самого, так и предшествующего ему.
Таким образом, предшествующее он знает в связи со своим обособлением от него, то есть издалека, и соприкасается с ним при посредстве знания; вследствие же своего соотношения с собой, а также происхождения от самого себя, при посредстве знания он соприкасается с самим собой как бы в некоем отстоянии; что же касается заключенных в нем <частей>, то и они разлучены и обособлены как друг от друга, так и от всего в целом,— потому-то все они, собственно, и познают друг друга и целое. Ум как весь и целый, естественно, существует в целостной и совокупной раздельности и законченности: он преисполнен знания, стал собственно умом как мышлением и сияет светом умной истины, поскольку первым пробудил в себе самом взоры знания, чтобы при посредстве созерцания того, от чего он произошел, вновь воспарить к нему и соединить его с самим собой; насколько такое соединение возможно при сохранении раздельности. Соединило ум с ним и сущностное возвращение, однако лишь связанное с первым отстоянием, при котором он был отделен и определен в согласии со своей ипостасью; совершило это и жизненное возвращение, но в связи со второй раздельностью, при которой ум претерпел разделение и перешел из состояния сущностной ипостаси в состояние познавательной. Связует его с ним также познавательное возвращение, но лишь как самое далекое, девятое после нерасторжимого и третье после разделенного,— ибо в то время как само возвращение является третьим после пребывания и выхода за свои пределы, то, которое возникает в связи со знанием, оказывается также третьим. Потому-то, находясь на столь значительном расстоянии в своей последней части — будучи как бы третьим в третьем,— ум и стремится таким образом прийти в соприкосновение с тем, что отстоит от него; это-то и есть знание — скорее всего потому, что оно было названо возвращением, причем именно последним355.
Однако, чем именно является знание? Похоже, что восприятием познаваемого в познающем. Впрочем, говоря так, мы еще не получаем ответа на поставленный вопрос. В самом деле, без определения того, что такое знание, нелегко понять то, чем будет познаваемое или познающее.
Знание (γνώσις), как на то указывает само его название, является возникающим нозисом (γιγνομένη νώσις)356, то есть мышлением. Последнее же, поскольку оно как бы начинает движение (νεϊται) и возвращается в нем к бытию и к тому, что есть, скорее всего, именно по этой причине вполне справедливо было названо отправлением (νεόεσις). Ныне же, благозвучно357 произнося это слово через долгое η и выговаривая его красиво — с использованием слияния звуков, мы называем его мышлением (νόησιν); так же возникло слово «ум» (όνους) — потому, что он отправляется к сущему358. То же самое относится и к сущностному и к жизненному восхождению (έπάνοδον), но в данном случае оно происходит в третьем чине и словно бы издалека — при посредстве познавательного мышления и так, как это свойственно познающему уму,— в каком-то смысле благодаря энергии, а не сущности и не жизненной силе. Потому-то прежде всего и возникает мышление, наиявственнейшее для нас339, так как оно в наибольшей степени раздельно. По этой самой причине многие соотносят с ним ум; а нужно было бы прежде него дать собственное имя как разделенной и определенной ипостаси соответствующему мышлению, предшествующему познавательному360, поскольку оно-то и есть первое восхождение к сущему того, что появилось от него на свет, и именно на его основании получил свое имя ум, прежде знания уже отправляющийся и восходящий к сущему.
Знание, скорее, мечтает о том, чтобы быть возникновением сущего и сущности,— ибо в восхождении к сущему при посредстве знания познающее обретает сущность, но не первую, а как бы некую привходящую сущностность361. Потому-то Аристотель и говорит, что ум есть его предметы362.
Впрочем, как мог бы заметить одаренный человек, имена должны соответствовать своим предметам. То же, что и ум и знание возникли в восхождении к сущему и при этом всякое восхождение является делом уже появившегося на свет и отпавшего от сущего и потому испытывающего нужду в возвращении к нему, причем именно в таком, которое не уничтожает этого отпадения, а возводит само по себе отпавшее в таковом качестве к тому, от чего оно отпало и вследствие чего появилось на свет, ясно из самого названия знания.
Так что же все-таки такое знание? Не сияние ли это и как бы прохождение света363 познаваемого в познающем? В самом деле, ощущение возникает в связи с каким-то чувственным восприятием, фантазия — в связи с неким его отпечатком, а мнение и размышление — в соотнесенности с предметом рассуждения и мнения соответственно. Стало быть, и знание (ή γνώσις) вообще, если можно так выразиться, возникает в согласии с неким познавательным предметом (τό γνώσμα). А не есть ли последнее само познаваемое, но уже обретшее свою сущность в познающем? Скорее всего, знание всегда связано с познаваемым, причем само последнее не является знанием. Тогда что же происходит с познающим, когда оно еще не познает и не испытывает влечения к познаваемому? Похоже, что знание есть его встреча с познаваемым как таковым,— ведь если она происходит с сущим, то сущее в этом случае также выступает как познаваемое. Что же такое это самое познаваемое и чем оно отличается от сущего? Либо сущее является познаваемым в соотношении с другим, в то время как само по себе — в качестве того, что оно есть,— оно выступает как сущее, либо к нему добавляется познаваемое, при том, что еще не существует какой-либо определенной природы ни того, ни другого из этих двух, либо сущее есть ипостась, а познаваемое — это как бы явленность этой ипостаси,— ибо и в применении, скажем, к материальному эйдосу ипостась является чем-то одним, а бытие чувственно воспринимаемым — другим. В последнем случае чувственно воспринимаемое в нем — это как бы его выход за свои границы и обращенное вовне сияние, достигающее органов чувств и потому возникающее как соразмерное с ними. В таком случае и явленность сущего — это как бы его свет, достигающий познающего и при своем прохождении соединяющий с ним прежде всех вещей высшее; он привходит в познающее так, как это ему положено, доводит его до совершенства и дополняет его стремление к сущему полнотой собственного сияния. И что же, ум познает не сущее, а его явленность? Похоже, что он познает именно сущее, но как явленность и как познаваемое,— ибо, если бы он познавал его как таковое, для того чтобы ему познавать таким образом, всякий предмет познания должен быть познаваем во всех отношениях364. Следовательно, ум познает именно сущее, но — с необходимостью — как нечто явленное, как мы и говорим. Так будет ли он стремиться к сущему? Да — но стремиться он будет к нему как к сущему, а достигать его будет как познаваемое. Впрочем, пожалуй, и о стремлении к сущему необходимо вести речь, имея в виду его познаваемость. В самом деле, влечения, сообразные природе, направлены на то же самое, с нем происходят встречи. Потому встреча с сущим у познающего будет происходить так, как будто оно познается.
Итак, что же мы говорим относительно соответствующей явленности? Скорее всего, следующее: она достаточна для предъявления последующему; она предоставляется желающему вкушать от сущего в соответствии с ним самим; в глазах стремящегося к сущему его словно бы окутывает пронизывающий свет. Так что же, стало быть, сущее во-обще-то не является познаваемым, а таков только его свет, подобно тому как единственное, что может видеть зрение,— это цвет365, а не то, что положено в его основу? Впрочем, в этом нет ничего удивительного, более того, просто необходимо, чтобы нечто первое всегда было непостижимо и таинственно для второго. Ведь тогда то, что располагается вне любых пределов, таинственно просто по отношению ко всему, а всякая вещь среди всех остальных содержит в себе лишь нечто таинственное для последующего, и, значит, оказывается таковой лишь в некотором отношении366. Следовательно, в том, о чем я говорил, никоим образом нет ничего противоестественного, и, пожалуй, можно было бы выказать сомнение лишь в том вопросе, не познает ли ум нечто, на самом деле пронизывающее сущее, а не само это сущее. Впрочем, речь шла именно о том, что в качестве явленного сущее будет не чем иным, как явленностью сущего. Действительно, такая явленность есть то, что пронизывает сущее, но не оказывается каким-то истечением от него, каков исходящий от Солнца и достигающий Земли свет; напротив, сущее занимает то же положение, что и в том случае, когда некто рассматривает само Солнце как сияние заключенной в нем природы. Значит, ум познает только то, что располагается на поверхности сущего так, как если бы его явленность была неким подобием цвета, или же явленность вообще, и необходимо полагать, что в ней нет ничего, лишенного блеска и не стремящегося к своему проявлению; ты мог бы сказать, что стекло полностью видимо в том же самом смысле, поскольку природа видимого пронизала его насквозь.
Впрочем, одно дело — тело, а другое — то, что полностью явлено; таким образом, если в рассматриваемом случае имеется явленное, то оно не соседствует с сущим. И обсуждаемое <познающее> будет прежде всего обращаться к бытию не сущего, а явленного, иного сущему,— ведь и в применении к тому, что вполне зримо, видимо не само тело, а только его цвет. Помимо этого, будем ли мы в данном случае определять явленное как одно в совершенно нерасторжимом, а сущее — как другое, то, что словно бы лежит в основании явленного, или же как то, что в некотором отношении отличается от него? Скорее всего, в ответ на это необходимо сказать, что сущее — это само то, что есть, и как таковое оно всего лишь сущее, причем совершенно нерасторжимое; поскольку ум при своем отделении отпал от него, он стал не только нерасторжимым, но и отделенным от отделенного. Если же отделенное пребывает как нерасторжимое, отличающееся от подлинного отделенного, то именно как в таковом в нем и проявляется познаваемое. В самом деле, познающее как отделенное обнаруживается в уме как нечто одно, а в сущем как отделенном некоторым образом появляется нечто иное, причем не познающее — ведь последнее сочетается с чем-то возникшим,— а собственно познаваемое, поскольку оно выделено из сущего тем, что появилось на свет при посредстве знания; это лишь собственно познаваемое, и познаваемости как некой определенной идиомы в нем нет, ибо в нем нет и раздельности как такой же определенной идиомы, поскольку отделенное от отделенного в этом случае пребывает в качестве нерасторжимого и потому не обретает своего собственного положения и как таковое не получает имени, как это подобало бы по его собственной природе, если можно так выразиться, раз уж подлинное отделенное не отделено от него. Следовательно, в этом случае нет познаваемого как чего-то находящегося в сущем: оно появляется и получает свое название в своем предстоянии уму367. Ведь тот рассматривает себя самого в качестве отделенного от названного, при том, что сущее остается нерасторжимым. Ум называет свое отстояние от него отделением, на самом деле находящимся в нем самом, а в сущем пребывающим как нерасторжимость и одновременно как принадлежность того, что при этом не выходит за свои собственные пределы.
Следовательно, в данном случае ум, поскольку он появился на свет, стал познавать то, от чего он произошел, и в качестве именно того, что появилось на свет, он совершает познавательное возвращение, как было сказано выше, при посредстве знания выделив предмет своего стремления. Именно этот предмет ум и назвал познаваемым: последнее появилось, скорее, как нечто, находящееся в нем, а не как обособленное от него,— ибо в этом случае в определенности нет ничего отделенного, поскольку само сущее не есть нечто, противостоящее жизни и уму. Действительно, все эти имена и предметы есть результат ведающей природы, высшая же природа сущего, пожалуй, будет, как мы и говорим, совершенно нерасторжимой, поскольку разделение каким-то образом возникает только в промежуточной природе; в уме же в числе прочего окончательно выделились познающее, познаваемое и само знание, и то, что главным образом познается,— это сам ум, разумеется, оказывающийся познающим благодаря самому себе. Ведь ум есть эйдос, потому что он — и нечто получающее форму и предоставляющее ее, и потому со всяким эйдосом сосуществует некоторое знание, причем всякий эйдос — это либо нечто живое, либо некая мертвая составляющая живого, лишенная одновременно и жизни, и собственно эйдоса, каковы камни, древесина и мертвые тела368, поскольку по природе они являются живыми и обладают неким внутренним чутьем, хотя бы и менее всего отчетливым и невоспринимаемым для нас. В самом деле, Платон говорит, что и растения — это живые существа369. То же, что камни, металлы и земля вообще, как и любая другая стихия, также не полностью лишены души, показывает как само появление на свет тех живых существ, которые обитают в них370, так и совершенство их внешнего облика. Впрочем, эти вопросы требуют специального рассмотрения.
Ум, разделившись в самом себе, весь и в целом стал одновременно познающим и познаваемым, ибо, отделившись и оказавшись обособленным от самого себя, при посредстве знания он соприкасается с собой, что обычно имеет место при соединении отстоящих вещей с теми, от которых они отстоят. Итак, как я и говорил, в уме познаваемое, познающее и само знание пребывают прежде всего в раздельности; однако, как разделенное, все это проявляется в связи со знанием, а как само то, от чего отделено названное, оно выступает как познаваемое,— ибо то, что появилось на свет, возжелало возвращения, вернувшись же при посредстве знания к познаваемому в качестве познающего371, оно открыло для себя путь к этому возвращению, и вот ум-то и есть и «от чего»372, и «что»; следовательно, он сам — и познаваемое, и познающее, и лежащее между ними знание. Стало быть, как я и говорил, все перечисленное в первую очередь относится к уму и существует в нем, но в каком-то смысле также берет свое начало в сущем. Однако ум был разделен и потому при посредстве знания устремился к сущему, ибо здесь-то и заключено последнее соприкосновение с ним появившихся на свет вещей. Возжелав прийти в соприкосновение и в соответствие с сущим, ум слил свое знание в единство всех знаний, создав тем самым одно объединенное знание и, как мог бы сказать кто-нибудь, со всей поспешностью374 обратился к подлинному, нерасторжимому познаваемому, причем не сделал себя познающим, соотносящимся с познаваемым как одно единое с другим в обособленности, но некоторым образом представил знание как сущность в их полном единстве375. Он прибегнул к знанию как к сущности и, следовательно, в качестве познающего устремился к познаваемому, поскольку находился от него на далеком расстоянии; соприкоснувшись же с ним и достигнув его, он узнал, что произошло соприкосновение не познающего и не с познаваемым, а одной сущности с другой376. Стало быть, путь для восхождения ума к высшему связан скорее с сущностью, к самому же себе — со знанием.
Далее, почему ум оказывается одновременно и познающим, и познаваемым, а сущность — только познаваемой, хотя и она, как было сказано, усматривается в некой раздельности? Пожалуй, необходимо сказать, что в первом случае познаваемое желает быть неким предметом стремления, а познающее — стремящимся, и при какой бы то ни было раздельности они соотносятся между собой как ум и сущность; тогда сущность будет предметом стремления, так как она есть лучшее377, а ум — стремящимся. Стало быть, ясно, что, в согласии с природой, стремящееся и познающее — это скорее худшее, а предмет стремлений и познаваемое — лучшее. Если же ум является познаваемым и предметом стремлений для самого себя или для того, что следует за ним или появляется от него на свет, то чего же удивительного тогда будет в том, что менее совершенные предметы окажутся причастными тем, которые предшествуют им, и при этом обратной их причастности не возникнет? Таким образом, сущность не есть ум, ум же — это и сущность, и ум, причем последним он оказывается в своем наличном бытии, а первым — в смысле сопричастности. Следовательно, в качестве сущности ум является познаваемым и, значит, он таков в силу сопричастности. В качестве же ума он познающий и, стало быть, такой и в наличном бытии. Итак, в ответ на данную апорию достаточно сказать и этого.
Пожалуй, кто-нибудь мог бы высказать и то предположение, что сущность является познающей, коль скоро в собственном слиянии она оказывается всем; однако она такова отнюдь не в качестве определенного знания. Действительно, при таком допущении она оказывается одновременно и познаваемым, потому что как все она есть в том числе и познаваемое, но в неопределенности и вне связи с иным. Ум же появился на свет от сущности и от связи, возникшей с чем-то, ему принадлежащим, так же как причинствующее становится собой при соотнесении с причинно обусловленным; поскольку последнее выказало себя как познающее, сущность выделила в себе нечто познаваемое в той мере, в какой идиома связи проявилась как противоположность уму. Вот что на настоящий момент должно быть сказано по данному поводу.
2.8. Ответ на девятый вопрос
82. Далее, девятым среди вопросов, предложенных выше, был такой: если какие-то вещи, находящиеся в определенной связи, взаимно гипостазируют друг друга, то разве обусловленное причиной не будет некоторым образом воздействовать на причинствующее, как и предмет стремлений — на само стремящееся, точно так же как познающее — на познаваемое, коль скоро оба они одновременно возникают в действительности? Впрочем, каким именно образом обусловленное причиной может воздействовать на причинствующее? В самом деле, это, пожалуй, будет верно лишь в отношении вещей одного порядка, хотя и тут можно было бы высказать недоумение по тому поводу, оказывает ли какое-либо воздействие то, что непосредственно не соприкасается с чем-то, на само это нечто, с которым оно не соприкасается, или оно действует лишь при их сближении во взаимной связи, при том, что испытывающее от него претерпевание само никак не изменяется, и все равно речь идет об этом претерпевании378. Похоже, что те вещи, которые в данном случае сближаются или расходятся, выступают в качестве материи, непосредственно же при этом проявляется эйдос связи, относящийся либо к обеим таким вещам, либо к одной из них — приближающейся или удаляющейся. Ведь и люди, когда они встречаются между собой, выступают всегда в некоем, как бы возникающем в дополнение к ним числе, и полоса света, когда она рассечена на две части, начинает участвовать в диаде вместо монады. Именно этому и учит нас Сократ в «Федоне»379. Если обусловленное причиной в выходе за свои пределы одновременно отделяется от причинствующего, то или они становятся вместо одного двумя, или же одно оказывается познающим, а другое познаваемым; то, что нечто переходит от каждого из них к иному, в применении к вещам одного порядка Сократ в своем рассуждении отрицает; утверждение же, что оба они появляются от чего-то иного, им предшествующего, в отношении того, для чего нет ничего предшествующего,— каковы первое познаваемое и первое познающее или первое причинствующее и первое причинно обусловленное,— не имеет смысла. Впрочем, ясно, что все то, что имеется в обусловленном причиной, появляется в нем благодаря причинствующему вместе со всей его сущностью. В самом деле, то, что производит на свет нечто, обособляет и отделяет возникающее от самого себя; следовательно, оно само дарует и самому себе, и тому раздельность, ибо точно так же и образец оказывается подобен своему изображению потому, что делает его подобным себе; и предмет стремлений предпосылается и противополагается стремящемуся потому, что он вдохнул в него постороннее ему стремление ко встрече с ним. Итак, и сущность, породив ум, предпослала ему саму себя как познаваемую и заложила в него силу для познания самой себя, причем не только в возможности, но и в действительности; именно это и закладывает в низшее основы высшего, ибо речь идет о познаваемом как о том, что наполняет познающее знанием, и о предмете стремлений как о том, что возвышает стремящееся до себя и наполняет его собой. Именно в описанном смысле Ямвлих соотносит умопостигаемое с умом и, конечно, полагает, что он полон собственного мышления. Стало быть, уже не обусловленное причиной действует на причинствующее, а последнее — на самое себя и на обусловленное причиной, ибо одновременно с сущностью оно создает и основанную на взаимном сопоставлении связь и, если можно так выразиться, прежде чем сотворить появляющееся на свет, обусловленное причиной, стремящееся и познающее, оно заранее творит себя как познаваемое, предмет стремлений, причину и производящее на свет. Итак, это не могло бы обстоять иначе.
2.9. Ответ на восьмой вопрос
Восьмой вопрос среди заданных с самого начала связан с обоснованием нужды в знании с точки зрения той пользы, которую оно приносит познающему или, если бы кто-нибудь захотел вести речь и о нем, то познаваемому.
Так вот, пусть прежде всего будет сказано, что знание предоставляет познающему само бытие. В самом деле, то, что благодаря знанию обретает сущность, обладает бытием именно в познании. Ибо ум пребывает в мышлении и потому последнее оказывается его сущностью, и, значит, творение самой мысли созидает сущность ума; оно-то и есть умопостигаемое и познаваемое.
Кроме того, в согласии со своим собственным расположением по отношению к умопостигаемому, ум делает это самое умопостигаемое явным, даже если оно, как мы оговорили заранее, и не существует в нем как ипостась.
Третья, вслед за этими, польза, которую мышление приносит мыслящему, это та, что оно эйдетически оформляет ум как мыслимое380 и созидает само третье или второе или какое бы то ни было иное по порядку, появившееся в виде того, что произвело его на свет. Это-то и есть самое священное, поскольку причинствующие вещи при посредстве причинных эйдосов обустраивают сам путь, связанный со знанием. А когда познаваемым вещам случается быть дурными, то, если у познающего возникает к ним симпатия, уподобление худшему ухудшает его; если же познание второго или худшего вообще совершается без участия переживания, то худшее восходит к лучшему иначе, и одно как бы вкладывается в другое381. При этом общность с худшим образуется прежде всего потому, что предпочитается обретение формы, возникающее при познании худшего.
Если же кто-нибудь ищет в этом собственно пользу и собственно благо, то пусть он примет в качестве таковых возникающую в знании близость всех вещей между собой, основанную на выявлении их общего родства, а помимо нее, открывающийся тем самым путь для всего, стремящегося к первому началу, например к благу382; на этом пути исправляются всяческие отклонения от последнего, и в результате знание начинает указывать путь для того, что устремляется ввысь. Ведь оно — словно взор, направленный вперед и возглавляющий влечение, обращающееся к высшему, поскольку возжигает для этого влечения свой собственный свет. Потому-то знание более всего способствует достижению цели для взыскующего ее. Кроме того, эйдетически оформляя худшее в согласии с такой оформленностью, присущей лучшему, оно благодаря своей общей направленности на сущее способствует обращению худшего к лучшему и к тому, что наиболее достойно среди всех вещей вообще. В самом деле, при посредстве знания мы соприкасаемся не с таинственным, а с сущим; последнее же соприкасается уже с первым во всяческом единстве, а потому таким путем в соприкосновение с ним приходит и все остальное.
2.10. Ответ на седьмой вопрос
83. Впрочем, давайте перейдем наконец к седьмому из заданных вопросов и, во-первых, обоснуем сам порядок возвращения в согласии со знанием и с сущностью, а именно то, что последнее лучше первого. Ведь подобно тому как ум, пребывая в рамках своего определения, подражает тому, что, в согласии со своим определением, находится превыше его, даже если его определение и соотносится с определением того так, как совсем неопределенное соотносится с определенным и нерасторжимое с раздельным,— точно так же и ведающий ум, в согласии со своим собственным определением, подражает тому, что в одном лишь познаваемом превышает знание. Это определение, поскольку, по общему согласию, оно касается не ипостаси в соотношении с ипостасью, а познающего в соотношении с познаваемым, является вторым. Так обстоит дело в общем
Если сущность ума и его описание связаны с его возникновением от самого себя, то познавательное возвращение будет совершаться аналогично тому, как их познает ум; а если бы он появился от того, что ему предшествует, то знание, познающее последнее, оказалось бы аналогичным этому созидающему выходу высшего за свои пределы,— ибо ум возвратился бы к нему и в сущностном, и в познавательном смысле.
Во-вторых, давайте уясним себе, как ум познает это предшествующее. Делает ли он это вследствие бытия и самим собой и им, только им, поскольку отказывается от самого себя, или же ни тем, ни другим по отдельности, но ими обоими вместе? Разумеется, ум не может познавать предшествующее ни помимо самого себя, ни при посредстве только самого себя, поскольку в этом случае он обращает внимание не на предшествующее, а на самого себя. Действительно, необходимо, чтобы они соединились между собой, так как в любой своей ипостаси ум появляется на свет от предшествующего; значит, во всяком своем знании ум будет познавать предшествующее. В самом деле, познавая самого себя, он обнаруживает себя как подражание тому, что ему предшествует, а также то, что он сам является и им и в то же время подражанием, и, познавая то, что он выступает подобием того, он узнает самого себя. Стало быть, в таком случае, с одной стороны, он будет познавать одно лишь подобие, а с другой — неподобие, причем только вот какое: что одно дело — это он сам, а другое — это то, что его породило, и одно есть то, что принадлежит последнему, а другое — то, что происходит от него, или же то, что одно — познающее, а другое — познаваемое.
Итак, необходимо сказать, что, подобно тому как ум в качестве разделенного был обособлен от сущего, точно так же и последнее появилось как нерасторжимое отдельно от него; стало быть, ум познал самого себя благодаря собственному знанию об описанной божественности и о неописуемой природе сущего; природа же эта не познает, но только познается, причем по той причине, что на ум распространяется нежная привязанность к собственному потомку, принадлежащая этой природе, пребывающей незыблемой. Стало быть, ум не пребывает в неведении о собственной причине — напротив, отпав от нее, он возвратился к ней и, возжелав слиться с нею, вместо этого познал ее, а вернее, слился с ней, но так, что сам не стал ею, но расположился вокруг нее в познании, то есть прояснил свой взор ее светом383. Ведь соприкосновение познающего с познаваемым вовсе не означает того, что одно сделалось при этом другим или чем-то, принадлежащим ему, или что оно восприняло исходящее от того истечение, так же как и того, что оно само вознеслось к тому. В самом деле, все подобные предположения связаны с соединением того, что уже было один раз разделено, и вовсе не допускают того вида знания, который возник в связи с различием, установленным самими определениями познаваемого и познающего, при том, что знание является повторным знакомством разлученных вещей и исканием, существующим наряду с разлученностью и как бы противопоставленным ей.
Впрочем, как говорят, благодаря тому что нечто пребывает внутри, мы познаем подобное ему, но находящееся вовне. Стало быть, скажу я, ум возник вне сущего в согласии с изменчивостью своей природы; однако в качестве именно вот такого он появился потому, что сущность сущего осталась неизменной, ибо изменение было связано лишь с его отделением. Таким образом, ум будет познавать сущность благодаря самому себе в целом, причем в никак не меньшей степени, чем если бы в самом себе он обладал неким следом сущности. И если в уме прежде Разделенной плеромы существует соединенная384, то, пожалуй, умное будет результатом предшествующей ему объединенной сущности, словно изображение, на основании которого будет известен его образец, подобно тому как первое из названного может быть известно на основании последнего, пусть даже отличие его от этого образца весьма велико. Если же в уме будет находиться некая частица объединенной природы — либо в своей простоте, либо каким-то определенным образом, то она будет или родственной самому сущему, или обладающей общей с умом сущностью, или каким-то образом и той и другой. Именно это мы и будем исследовать ниже — в рассуждении, посвященном сопричастности. Так вот, если в уме будет присутствовать нечто подобное, то в согласии с ним он будет познавать и сущее,— ибо, поскольку данная природа в некотором смысле едина, в каком-то отношении едино и знание о ней. Именно это мы и собираемся более подробно изучить в рассуждениях об уме как о подлинно таковом, поскольку тогда уже будем обладать знанием о сопричастности.
2.11. Ответ на шестой вопрос
Далее, у нас остается еще и шестой вопрос — почему ум образует самого себя в сущностном возвращении к самому себе, однако в возвращении к предшествующему ничего подобного не происходит; те же самые апории возникают и в связи с жизненным возвращением. В самом деле, мы, разумеется, видим, что познавательное возвращение как к самому себе, так и к предшествующему происходит совершенно одинаково, поскольку ум в познании не оказывает никакого действия ни на то, ни на другое. Ведь даже если бы знание некоторым образом и оказывало бы такое воздействие, то в той мере, в какой оно будет его производить, оно станет уже не знанием, относящимся к познаваемому, а словно бы созидательной причиной для какого-то сотворенного им предмета, но, однако, собственным делом для познающего является не творение, а лишь познание уже существующего; созидание же — это дело сущности и жизни385, или, точнее, результатом действия сущности оказывается ее дарование и предоставление некой первой ипостаси, а результатом жизни — приведение такой ипостаси в движение и побуждение к выходу за свои пределы или же придание ему созидающей природы.
Так вот, почему сущностное возвращение к самому себе приводит к возникновению ума от самого себя, а его возвращение к предшествующему отнюдь не приводит это предшествующее в какое бы то ни было состояние? Да разве может причинствующее прийти в какое-либо состояние под действием обусловленного им? Значит, такое возвращение вовсе не является подлинно сущностным, раз оно вообще-то не дарует сущности или же дарует сущность ума, причем в качестве порожденной тем, что ему предшествует,— ибо возвращение к нему оказывается сущностным потому, что ум описывает самого себя, появляясь от него на свет благодаря повороту к нему, поскольку воспринимает от него бытие. Точно так же необходимо мыслить и сущностное возвращение ума к самому себе, поскольку оно обусловливает его наличие в качестве появившегося на свет от самого себя. Тогда, сделав похожие предположения относительно жизненного возвращения, мы по справедливости сохраним присущую ему аналогию.
2.12. Ответ на пятый вопрос
Вслед за этим мы легко разрешим и пятую проблему, согласившись с тем, что собственным признаком возвращения является тяга к чему-то иному, то есть к тому, к чему возвращающееся совершает свое возвращение, или же к себе — в том случае, когда происходит возвращение к самому себе,— причем склонение в согласии с сущностью возникает наряду с собственным гипостазирующим своеобразием, а в согласии с жизнью — наряду с животворящим. Ведь «возвращаться» и «созидать» — это отнюдь не одно и то же: к возникающему во всех смыслах возвращается только то, что его созидает, и на основании того, что сопутствует ему, мы и хотели бы узнать сам вид возвращения, принадлежащего дарующему качество сущности или животворящего, коль скоро такое возвращение является чем-то иным по сравнению со знанием: одно, как и было сказано — это склонение к иному или к самому себе, другое же — как бы согласие386 и единомыслие в бытии каждой вещи тем, что она есть.
2.13. Ответ на четвертый вопрос
83а. Четвертую проблему необходимо свести к пятой и в применении ко всем трем видам возвращения следует провести такое же деление, пояснив, что, стало быть, и в случае жизни имеется то, что аналогично познающему,— и это, разумеется, живущее; познаваемому аналогична та жизнь, которой живет живущее, а знанию — животворение. Итак, и в этом случае можно говорить о животворящем, о том, на что обращено животворение, и о самом животворении. То же самое верно и применительно к сущности: с одной стороны, имеется обладание ею и ипостась, а с другой — то, что ее получает и возникает в качестве ипостаси, а также то, на что направлено это самое ее дарование, обретающее сущность в уме, в качестве которого получает ее сам ум. Ведь, говоря яснее, возвращение представляется посредствующим, а из того, чему оно посредствует, одно аналогично возвращающемуся — и это познающее, живущее и обретающее сущность, каковы те предметы, которые сами познают, живут и обладают сущностью, а другое аналогично тому, к чему они возвращаются,— и это познаваемое, жизненное и сущностное; ведь каждое из перечисленного, разумеется, выступает как предмет стремлений для чего-то среди вышеназванного: одно — для познающего, другое — для живущего, а третье — для обладающего сущностью387.
Впрочем, давайте не обойдем молчанием и то заслуживающее внимания положение, что в применении к знанию для этих трех предметов имеются собственные имена, поскольку знание связано со значительной раздельностью, в то время как во всех остальных случаях этого нет, так как соответствующие вещи образуют полное единство, какое, например, присуще живущему и жизни, а в еще большей степени — обладающему сущностью и самой сущности, в качестве каковой то обретает ее и к которой возвращается в согласии с сущностью. Потому-то знание может быть как действием, так и претерпеванием — ведь, как мы говорим, я познаю тебя и познаюсь тобою. Слова же «живу» и «есмь» никогда и ни в каких грамматиках не употребляются в страдательном залоге, если не присоединяют к себе глаголы «делать» (τό ποίεϊν) и «делаться» (τό ποιεισθαι)388; только тогда в отношении их и возникает взаимная обратимость, как, например, в случаях применения слов «оживляю» (ζωοποιώ) и «оживляюсь» (ζωοποιούμαι).
2.14. Ответ на третий вопрос
84. В ответ на третий вопрос мы скажем, что выход за свои пределы двойствен, и один — это тот, который принадлежит появившемуся на свет, и его, в свою очередь, можно было бы рассматривать как троякий: как принадлежащий познающему в связи с предметом познания, как имеющийся у живущего в связи с самой жизнью или ее причиной и как свойственный сущему в связи с первым сущим; другой же — тот, который наблюдается при самом появлении на свет, а в нем, как мы говорим, пребывает только жизнь, потому что в ее рамках не могло бы, пожалуй, существовать трех обособленных предметов и, стало быть, даже когда кажется, будто они обособлены, они допускают лишь видимость взаимной противоположности; по крайней мере, в применении к объединенной сущности389 то, что некоторым образом обретает сущность, то, что познает, и то, что стремится к жизни, разделить невозможно. Следовательно, если бы кто-нибудь рассматривал и именовал пустое установление <сущего>390, то он не стал бы делить его на три части. А если бы он говорил о пребывании собой появившегося на свет, то вот оно-то и подлежало бы рассмотрению в раз
делении на три части, ибо ум наличествует в познаваемом в качестве знания, в жизни или в ее причине — в качестве собственно жизни, и в сущем — как неполная разлученность с ним, о чем мы и говорили выше.
2.15. Ответ на второй вопрос
Таким образом, приняв во внимание изложенное, в ответ на второе возражение достаточно сказать, что возвращение является делом вышедшего за свои пределы — ведь оно-то и испытывает нужду в обратном восхождении и прокладывает себе путь для него,— и это не то, что еще только выходит за свои пределы, коль скоро оно пока еще всего лишь возникает, и тем более не то, что пребывает до такого выхода за свои пределы, ибо подобное на свет пока не появляется. Так не соответствует ли появившемуся на свет одно лишь возвращение? Нет, напротив, его дело — выход за свои пределы, а равным образом также пребывание. Ведь, конечно же, оно появилось на свет именно как пребывающее, а между возникновением и пребыванием совершало выход за свои пределы,— ибо эти три вещи, как много раз было сказано, вообще определены в связи друг с другом. Следовательно, в том, что обладает некоторой сущностью, имеются эти три момента, и оно-то и есть появившееся на свет. Сущее же, которое, разумеется, не выходит за свои пределы и в котором нет ничего определенного, естественно, не могло бы быть названо пребывающим, так что в нем нет и неколебимости как чего-то определенного. Иначе говоря, как совершенно нерасторжимое, объединенное и сущее, пребывающее в предшествующей всему, не способной к выходу за свои пределы природе, оно считается неподвижным. В таком случае и так называемая жизнь связана с пребыванием, выходом за свои пределы или возвращением, но рассматриваемыми не по отдельности, а как еще только появляющиеся в ходе разделения. Следовательно, эти три вещи, похоже, сосуществуют между собой в объединенном как нерасторжимое единство, в разделенном — как некая определенность и уже имеющееся их противопоставление, а в промежуточном они, очевидно, занимают некое среднее положение, в каком-то смысле будучи одновременно и определенными, и неопределенными, а в каком-то — нет. Впрочем, из этого уже вполне ясно, что в таком случае в появившемся на свет они пребывают разделенными по своему виду.
Что же, сущее в таком случае вовсе не вернулось к самому себе и не является самовозникшим, то есть появившимся на свет от самого себя и пребывающим в самом себе? Похоже, что таковым оно только воображается нами самими, пребывающими как разделенные подле его единой простоты, само же по себе оно вообще не является никаким из трех обсуждаемых моментов, но оказывается их единой общностью, причем в нем они соединены в целостной общности всего. В самом деле, тому, что существует в возвращении, в выходе за свои пределы или в пребывании, нужно было бы находиться в каком-то другом положении391, при том, что сущее само по себе является всего лишь простым бытием. Ведь каждая названная вещь существует не просто как таковая, ей случается быть вот этой пребывающей, выходящей за свои пределы или возвращающейся сущностью, которая, вообще говоря, определена. На основании сказанного ясно, что в появившемся на свет присутствуют и сущность, и жизнь, и знание, но, конечно же, как разделенные и противостоящие друг другу. Средняя природа еще не является ничем подобным: ни сущностью, ни жизнью, ни знанием, и тем не менее она уже есть мука их рождения и образования. В так называемом же идущем вперед нет даже их предвосхищения.
Однако что же такое появившееся на свет само по себе? Является ли оно всегда третьим, как и всем тем, что следует за третьим, или иногда также и вторым — пусть даже не как второй момент сущего, который мы называем жизнью, а как второй ум, пожалуй следующий за первым умом и за впервые проявившимся в нем разделением, поскольку последующее всегда отличается от предшествующего, конечно же, как причастное уже появившемуся до него разделению? Ведь и оно существует, поскольку каким-то образом проявляет себя в самом разделении, будучи аналогичным тем вещам, которые ему предшествуют или следуют за ним. Такова в халдейских триадах сила.
2.16. Ответ на первый вопрос
Давайте же на основании всего сказанного рассмотрим первый заданный вопрос — какова необходимость в противопоставлении трех вещей друг другу, идет ли речь о пребывании, выходе за свои пределы и возвращении, или о сущности, жизни и уме, или же об объединенном, разделяющемся и уже разделенном. Так вот, пожалуй, лучше всего было бы провести сопоставление нерасторжимого, разделяющегося и уже разделенного, так же как, в свою очередь, и объединенного и множественного в связи с их диаметрально противоположным положением в рамках антитезы «единое—множество», при том, что между ними находится нечто, уже утратившее связь с единым, в котором проявился некий отблеск множественности. Вот эта-то триада и выделяется при правдоподобном рассуждении392, на ту же, что ей предшествует, могут указать сами чувственно воспринимаемые предметы, находящиеся перед глазами у всех: среди них часть мы называем только существующими, часть, в дополнение к этому, и живущими, а часть, кроме того, и познающими; на эту триаду указывает само определение живого существа, в соответствии с которым в нем выделяется <живущая> и познающая сущность393. Итак, живое существо состоит из трех перечисленных вещей. Когда исчезает знание, сохраняется всего лишь живущая сущность, а когда уходит и жизнь, остается одна сущность.
Допустив наличие таких предметов, давайте, если угодно, тщательно рассмотрим наши собственные понятия, связанные с тем, что мы высказываем относительно бытия, жизни и познания. Так вот, последнее обращается к иному, поскольку возникает как стремление к познаваемому, бытие существует в качестве самого себя, при самом себе и только само по себе — без какой бы то ни было двойственности, а жизнь занимает безыскусно промежуточное положение. В самом деле, живущее еще пребывает в самом себе, и поскольку оно живет, то соотносится с самим собой, но при этом как-то пробуждается и обособляется от самого себя и как бы кипятит собственную сущность, но еще не обращается к иному; потому-то жизнь, будучи весьма близка к сущности, и не сводится к действию и претерпеванию. Ведь жизнь есть некое отклонение сущности, и из-за этого кажется, будто она есть движение394 или, во всяком случае, его причина, будто она есть разделение или, по крайней мере, пребывает в процессе вечного разделения или оказывается причиной последнего, но на самом деле ничем подобным она не является. Действительно, сущность — это, в свой черед, вовсе не покой и не причина покоя, как и не соединение и не его причина, а ум — не знание и не причина одного лишь знания. Все это — эйдосы, и они определены в соотнесенности друг с другом; в этом случае жизнь и сущность оказываются уже определенными вещами395. Что же касается ума, то он есть все: и первый ум, и всеобщий космос уже в его собственных очертаниях и в раздельности, в котором наблюдается определенный порядок, предстающий в виде небесных сфер396. Стоящая впереди него природа, которую мы одноименно с эйдетической жизнью, соответствующей среднему чину, также называем жизнью, еще не связана с определенным порядком, ибо она никоим образом не расчленена и не имеет очертаний, поскольку очертания в свой черед есть некое деление; она проявляется, начиная с сущего, как перетекающая из одного состояния в другое, и не становится ничем иным, кроме самого этого течения, поскольку не пребывает в неколебимости среди высшего и не обрела законченного вида среди низшего. Ей предшествует совершенная ипостась сущего — совершенная настолько, что как таковая даже и не допускает подобного течения и излияния в промежуточное.
Таким образом, эта самая триада как последовательность определенных понятий оказалась внутренне противоречивой совершенно справедливо. В самом деле, слово «сущность» указывает только на то, чем является каждая вещь397, даже если бы кто-нибудь рассматривал как нечто определенное и тем самым как ипостась само знание, и то же самое относится к жизни, даже если бы речь шла об уме, а значит, и к благу, красоте и справедливости, и все то, что есть сущность, оказывается результатом сущего-в-себе. Что же касается жизни каждой вещи, то она есть как бы кипение всякой сущности, в каждом случае восстанавливающееся и укрепляющееся благодаря самому себе в направленном вовне действии, если только подобное определение может наглядно представить то, о чем мы говорим. Когда же она сплетается с иным видом и обращается на иное, то в ней можно усмотреть и другие действия и особенности, и в их числе само знание. Потому-то по отношению к сущности жизнь выступает как сила, а знание — как энергия; впрочем, имеются и познавательные, точно так же, как и жизненные, сила и сущность. Стало быть, в пребывании собой возникла сущность, в соотнесенности с иным — знание, а как средняя между ними — не в обращенности к иному и не в собственной неколебимости — так называемая жизнь, которая из-за своего срединного положения и является, конечно же «исследованием» (τό ζητεϊν) и «кипением» (τό ζέειν)398. Почему же ум оказывается третьим? Если он обретает сущность в качестве знания, то «мыслить» означает то же, что и «познавать», потому что знание, как было сказано, противоположно жизни; если же понятия «мыслить» и «мышление» указывают путь для восхождения к сущему — о чем речь шла выше,— который есть возвращение или разделение, то ясно, что ум — третий вслед за жизнью и сущностью, ибо последняя неописуема, ум предстает в виде определенных понятий, жизнь же занимает промежуточное положение. Помимо этого, ум, став вместо единого и объединенного многим, уже пребывает разделенным, сущность однородна и нерасторжима, жизнь же располагается посередине и в этом смысле.
Итак, ко всему сказанному необходимо добавить, что пребывание, выход за свои пределы и возвращение логически противостоят друг другу. И если мы возьмем одну и ту же вещь, то она будет обладать всеми этими тремя энергиями. В самом деле, она либо пребывает в спокойствии, либо некоторым образом изменяется, либо вновь стремится к спокойствию. Например, тело либо пребывает здоровым и находится в состоянии согласия с природой, либо приходит в противоречащее природе
состояние, либо вновь возвращается в состояние согласия с ней. Если же в связи с тождественным и иным в вещи мы будем исследовать и ее разделение на три части, то скажем, что последние либо сосуществуют с ней, либо отпадают от нее, либо вновь возвращаются к ней399.
3. Умопостигаемое и множественное
3.1. Стихии, части и виды
85. Опираясь на проведенное рассмотрение, необходимо исследовать и то, что было сказано относительно умопостигаемого и совершенно объединенного: обладает ли оно какой-либо раздельностью в самом себе и соответствует ли ему последовательность первой, промежуточной и низшей плером, являются ли эти плеромы, как говорят философы, сущностью, жизнью и умом или, как утверждает большинство теологов, ведя речь о большем числе умопостигаемых начал, чем-то иным, или же отеческой триадой, которую воспевают халдеи400. И если бы мы вознамерились провести такое исследование надлежащим образом, то нам необходимо было бы вновь вернуться в рассуждении к рассмотрению многого и множества. Ведь именно тогда, пожалуй, станет ясно то, соответствует ли этому самому умопостигаемому множество или нет, а точнее, то, в каком отношении оно будет ему соответствовать, а в каком — нет.
Итак, все люди ясно представляют себе и так и именуют многим то, что отстоит друг от друга и в пределах чего каждая отдельная вещь существует сама по себе в собственных границах, пребывая именно вот этим и желая быть и называться лишь тем, что она есть; к этому, как мы говорим, стремятся виды.
Кроме того, о многом говорят и как о частях401. В самом деле, по природе не свойственно существовать одной лишь части чего-нибудь, их должно быть, по крайней мере, две; стало быть, части являются многим. Отличие от видов в данном случае в том, что части не желают пребывать самостоятельно и принадлежать лишь самим себе, но всегда существуют во взаимной связи между собой и с целым, причем в пределах последнего; начало разделения для них заложено в самом выделении частей, однако они не отстоят друг от друга в собственной определенности и, кроме того, обладают сущностью наряду со своей тягой друг к Другу и к целому; важнейшим проявлением этого оказываются так называемые гомеомерные части402.
В третьем смысле о многом говорят как о стихиях. Действительно, то, что образовано из стихий, также не может создать только одна из них и на это способны, по крайней мере, две.
Какая разница между частями и стихиями?403 Одна — это та, что части всегда состоят из тех же самых стихий, что и целое. В самом деле, части состоящего из стихий, например жилы, есть те же самые четыре стихии, что и у любой ее части. При этом сами стихии, например огонь и земля, являются более простыми, чем какая бы то ни было часть, даже та часть жилы, которая кажется мельчайшей404.
Другое отличие — это то, что части всегда сохраняют собственное членение, в соответствии с которым они были выделены405,— ведь если бы они его не сохраняли, то уже не были бы частями. Что же касается стихий, то они не допускают какой бы то ни было раздельности, а полностью сливаются и приходят к единству, и бытие их и состоит в том, чтобы никоим образом не проявлять собственной раздельности, а тем более своих очертаний.
Третье их различие — это то, что стихии не принадлежат к одной природе с тем, что из них состоит, за исключением разве что самого того, что речь идет о стихиях; я имею в виду, например, то, что стихии нашего тела существуют в согласии не с эйдосом их смешения: если, скажем, им случится быть костями или мясом, то они становятся соразмерными и подобными эйдосу406, например, костей и мяса, и, однако, сами по себе они принадлежат к иной ипостаси. Точно так же и в случае, если бы существовали некие стихии сущности, сами по себе они не были бы сущностями. Ведь сущность тогда была бы составлена из стихий, а сами последние уже не были бы такими составленными. Итак, крайними состояниями многого оказываются, с одной стороны, то, что определено как собственная ипостась407, а с другой — то, что слито в одном общем единстве всего; среднее же положение занимают части и связанная с ними расчлененность, поскольку части уже некоторым образом отстоят друг от друга, но еще не образуют собственной содержательной определенности.
Однако если все многое по природе различается именно в описанном смысле, то почему бы четырем стихиями не быть еще и какими-либо видами и почему бы так называемым родам сущего также не быть видами? Впрочем, иногда как о стихиях говорят и о родах сущности408; их относят к сущему потому, что их слиянием является сущность. Если же кто-нибудь скажет, что роды — это виды, но не стихии, то чем же окажутся подлинные стихии? В самом деле, разве можем мы найти что-то более простое, нежели роды сущего?409 Тем не менее они, похоже, являются еще и видами, сохраняющими собственные очертания, так как в сущности заключены и покой и движение как нечто зримое, и то же самое относится к любой другой паре родов. Почему сущности соответствуют также части человека: голова, руки и ноги? Почему целое может состоять и из таких частей, которые сами являются целыми — я говорю о Солнце, о Луне и обо всех остальных <звездах>, каждая из которых есть целостный вид, и о наших частях, облик которых может быть как-то описан на основании собственных видовых различий и которые неодинаковы?
В ответ необходимо сказать, что низшее всегда причастно высшему. Стало быть, виды есть одновременно также части и стихии и, в свою очередь, части — это стихии, но никак не наоборот. В самом деле, среди видов одни оказываются проще других, а простые части410 становятся стихиями составных предметов, не терпящими расчленения составного, которое оказывается разделением на части того, что образовано из стихий, присутствующих уже в первой его ипостаси411. Эта ипостась будет более всего неделимой, конечно же, вследствие самого способа ее образования путем слияния стихий и потому, что, прежде чем получить некую определенность, она в силу необходимости полностью разделяется и в этой раздельности возникает некоторый порядок ее частей,— ведь необходимо, чтобы произошло распадение единства на части и чтобы поэтому на свет появилась совершенная эйдетическая раздельность412. Вообще же, когда виды стремятся обрести собственную определенность, все те из них, которые не желают для себя собственного положения, собираются воедино, тоскуя по изначальной природе, и вот тогда-то они и становятся также и частями, так что в качестве их соединения как чего-то простого необходимо понимать их и как виды, и как части, и одновременно — но на ином основании — как виды и как стихии413. Однако при этом они не сливаются в тождестве, но, будучи объединенными и являясь некой предельной слитностью, окажутся стихиями, в качестве же обособленных друг от друга их правильнее называть видами, а как некоторым образом все еще обособляющиеся — в смысле двунаправленного среднего положения обсуждаемой ипостаси — они прежде всего именуются частями414.
Далее, все те части целого, которые неодинаковы, одновременно являются и видами, и частями: видами они оказываются в силу своей неодинаковости415, а частями — потому, что по своей природе не существуют самостоятельно, а располагаются в целом. Таковы наши так называемые телесные органы, а на небе — полушария, четверти небесной сферы и различные зоны и, кроме того, полюса, стороны света, оси и круги, определенные на основании каких-либо демиургических делений416, неспособные существовать самостоятельно. Далее, в душах частями такого рода случается быть словам, так же как и всем причинам различий и видам участия в подобной природе417; это также виды наличного бытия той природы, которая самосовершенна,— за исключением лишь того, что их слияние в данном случае образуется наподобие тех, которые соответствуют стихиям и, как было сказано выше, целостности, и в последнем случае стихии выступают в качестве частей.
Итак, вот каково то, что одновременно есть и виды, и части. Видами же и одновременно стихиями являются все то, что в своем нерасторжимом слиянии соединено лишь в один вид. Таковы составные живые существа, как целые обнаруживающие полный синтез: мулы, страусы и тому подобные418. В самом деле, они появились на свет от животных различных видов, словно образовавшись из стихий, сливающихся в некий вид единого.
Точно так же мы будем рассматривать и части, являющиеся как таковые лишь частями самими по себе, но при этом именно такими, которые отклоняются от соединенной природы и, однако, еще не выделились окончательно и не обрели своей самостоятельной и завершенной определенности. Таковы, по общему согласию, гомеомерии, поскольку как целое они разделены и тем не менее принадлежат к одному и тому же виду и потому соименны и целому, и друг другу. Кроме того, таковы некоторые части, еще только склоняющиеся к неподобию, но пока остающиеся в рамках целого и в пределах общей соименности одной и той же природы; таково, например, то живое существо, которое причислено к некоторому виду, но претерпело некое изменение419. Ведь качество животности является одновременно еще и частью и мерой животного, однако при этом то качество, которое уже в некотором отношении оказывается человеческим, а в некотором — еще и лошадиным, основывается не только на соразмерности с каждым из этих качеств (ибо подобное могло бы произойти и с гомеомериями), но и на выходе за пределы своего вида и превращении одновременно и в человека, и в коня .
Частями как видами в этом случае оказываются все те, которые принадлежат к каждому из самостоятельных и занимающих собственное положение видов: или в качестве худших, каковы, например, наши органы, или в качестве лучших, каковы части космоса. В самом деле, последние предпочли своему собственному бытию бытие целого, а первые из-за несовершенства своей природы просто не в состоянии существовать самостоятельно и властвовать над собой.
Пожалуй, могли бы быть обнаружены и части, одновременно оказывающиеся стихиями, например те, которые образуют так называемую нераздельную целостность, состоящую из частей. Ведь то, что она образуется из частей, даже если и не вся вообще, то, по крайней мере, как таковая, очевидно; на то же, что она как бы составляется из стихий, указывает то, что в этом случае из многого возникает единый вид, при том, что многое становится в едином невидимым и при видообразовании целого уже не сохраняет своей раздельности. Я полагаю, что и виды в пределах рода можно рассматривать так же и то же касается частей в рамках целого (ибо они не замыкаются в границах собственной определенности): будучи частями, они становятся стихиями рода. В самом деле, образующееся подобным образом соединение многих живых существ есть единое живое существо вообще421, которое скорее всего обладает собственной ипостасью в границах определенности живого существа как такового. Пожалуй, такое суждение будет тождественно высказанному ранее; впрочем, роды сущего — даже если кажется, будто они есть виды, выступающие при этом в слиянии всего скорее как части,— тем не менее по этой самой причине становятся, словно имеющая облик стихий природа, единой сущностью, которую все они образуют. Конечно, по этому поводу с большой тщательностью можно было бы производить самые тонкие рассуждения.
Необходимо также сказать, какие из видов или какие из частей могут становиться стихиями, а какие не могут. Действительно, похоже, что такими не могут быть все те виды, которые занимают среди сущего низшее положение. Ведь если бы они были стихиями, то и вслед за ними существовало бы нечто, состоящее из них.
Кроме того, нужно исследовать еще и тот вопрос, имеются ли стихии, образующие ипостась, присущую, скорее, составным вещам, у высшей и простой природы. В самом деле, это, похоже, верно во многих, но, разумеется, отнюдь не во всех отношениях. Ибо, например, наше тело состоит из стихий, существовавших прежде него, и бывает, что человеку и коню на основании самых общих понятий дают определение в качестве разумного смертного и неразумного смертного животного соответственно, и даже душа включает в себя сущность, жизнь и знание — при том, что изначально422 они как таковые уже существуют. Однако тело всего как целого также образовано из четырех стихий, но при этом соответствующие стихии в его основу заранее не положены423, и первая сущность также не возникает из стихии, по своей природе занимающих предшествующее ей положение,— ибо прежде нее никаких стихий нет. Далее, то, что состоит из стихий, всегда стремится быть лучшим, нежели собственные стихии, которые никогда сами по себе не существуют, но имеются лишь в том, что образовано из них, причем совместно друг с другом, подобно тому как части всегда следуют за Целым и сопутствуют друг другу, поскольку то, что возникло из них, использовало их и в этом смысле оно само по себе является как бы материей; в качестве же эйдоса оно возникает в дополнение к ним.
Если это действительно так, то первое состоящее из стихий, пожалуй, не могло бы образоваться из стихий, превосходящих его собственную природу и предшествующих ей,— напротив, оно возникает из впервые появляющихся в нем самом стихий, менее совершенных по сравнению с целостным эйдосом, и потому мыслимых как более простые, или, что еще правильнее, в согласии с истиной, таковыми даже не являющихся, но оказывающихся всего лишь менее совершенными и, скорее, частными. В самом деле, только в этом случае образованное из них обладает и частями и видами, так как представляется целостным и составным по причине бытия объемлющим. На самом же деле оно не такое, но, вероятно, еще более простое и лучшее424.
3.2. Простота стихий
86. Что же это за так называемая простота стихий и с какой сложностью она соотносится? Скорее всего, состоящее из стихий двойственно, и одно есть то, что присоединяется к стихиям в качестве эйдоса425 и что на самом деле является более простым и лучшим, нежели они, а другое — это как бы смесь и слияние самих сосуществующих стихий426, то есть нечто, заранее предполагающееся в качестве некой единой и составной материи. Так вот, стихии оказываются простыми именно по сравнению с последней, но никак не по отношению к общему видообразующему своеобразию смеси427. Значит, именно последняя природа и есть сущность, та же, которая соответствует этой смеси, есть сущность в возможности. Каждая из стихий — какая-то часть материи, и потому они — еще не сущность и тем не менее имеют ее облик и близки к ней, хотя и менее совершенны, чем она.
Так что, первая сущность образуется из материи и эйдоса? Откуда же тогда возникла материя, если не из того, что по своей природе появилось до нее? Ведь, как говорят428, даже наша собственная материя происходит от высших начал429. Нет ли необходимости в том, чтобы существовали некие сопричастности, исходящие от предшествующих предметов и воспринимаемые как материя и стихии? Впрочем, подробно исследовать сопричастность я собираюсь ниже, а что касается стихий, то, при том, что они рассматриваются в некоем множестве и определенности, сущность, имеющаяся до всякой сущностной определенности, не могла бы, пожалуй, быть второй после собственных стихий. Следовательно, возникнув первой, она явила собственные стихии одновременно с собой и в себе, подобно тому как целостность обнаруживает части, а вот этот космос — свои стихии, существующие в нем; при этом я говорю не о материи, хотя, пожалуй, это относится и к ней, а о четырёх эйдетических стихиях, каковы бы они ни были и как бы их ни определяли430. Ведь проявляются ли они как четыре части целого431 или как то зримое и осязаемое и промежуточное между ними, что существует повсюду и усматривается во всех вещах432, в любом случае они представляют собой дополнительное подразделение единого и однообразного космического устроения.
В самом деле, всякое единое по своей природе предшествует собственному множеству, которое словно бы вырастает из того в ходе его разделении на названные части433,— ибо по природе необходимо, чтобы единое в ипостаси многого, так сказать, разворачивалось, не распадаясь при этом на многое: тем самым оно предоставит место в ипостаси и многому, даже если одно от другого и неотделимо. Если же многое тройственно и выступает как виды, как части или как стихии, то это имеет место, разумеется, потому, что тогда само единое окажется трояким и каждому множеству будет соответствовать собственное единое: видовое слияние и единый вид, предшествующие раздельности, целостность, предшествующая частям, и состоящее из стихий, идущее впереди них.
По аналогии с этим проявляются и различия в самом едином, поскольку то, что имеет отношение к видам,— это многообразное единое, а то, что соотносится с частями, представляется многочастным, поскольку целое в своей всеохватности распространяется на все части, и при этом имеется и нечто неделимое, предшествующее частям, даже если оно и возникает только в виде частей, так как именно оно и дает частям их положение в своей расчлененной ипостаси. То же, что состоит из стихий, как более совершенное сплачивает и сливает их, объединяет с собой и, разумеется, не позволяет стихиям быть выстроенными в определенном порядке вслед за собой, но вынуждает их достигать завершенности в собственной ипостаси434.
Потому-то все, будучи от природы многим, становится тем не менее единым, причем смесь не является одним, а состоящее из стихий — другим, как мы, ради, конечно же, ясности только что и говорили, неоднократно меняя свое мнение,— напротив, это самое составленное из стихий есть единое и многое, и при этом многое сплочено при посредстве единого, а не является просто сосуществующими между собой многими вещами; оно объединено, поглощено единым и пребывает в его неопределенности. Ведь в таком случае всегда обнаруживаются соотносящиеся между собой стихии и то, что состоит из них, и при этом стихии не выступают как его материя, поскольку части, со своей стороны, не являются материей целого435, а виды не есть материя того, что могло бы быть названо, в отличие от целого, всем вместе436. Они лишь аналогичны материи437, и множество соотносится с единым как принадлежащее к каждому виду среди тех, из которых образуется целостный вид единого и многого. Тогда состоящее из>стихий является и единым, и многим, поскольку многое властью единого слито в себе, так как, разумеется, если это единое пренебрегло собственной простотой и как бы подчинилось многому, вступившему внутри себя в раздор, а вернее, уподобившемуся себе в собственных для каждой стихии очертаниях, то, с одной стороны, многое вместо стихий стало видами, с другой же — единое оказалось как бы многоцветным и пестрым, а вместо состоящего из стихий и самих по себе стихий или же слияния и сливающихся предметов, в качестве видов под действием чисел появились монада и составное единое и многое438.
Части же и целое необходимо рассматривать как нечто промежуточное, поскольку в отношении их возникло некое попущение, и потому части возникли в связи с некой дерзновенной раздельностью439. Тем не менее, при том, что в восприятии раздельности и в отказе от себя образовалась некая склонность единого к частям, а в восприятии единого и раздельном его сохранении — склонность частей к единому, промежуточное положение между ними занял сам предмет, одновременно принадлежащий к собственному своеобразию целого и частей440. Потому-то в этом случае явственно просматриваются как двойственность, так и единая связь. Что же касается предельных состояний441, то, даже если подобные вещи в отношении их и имеют место, они более или менее неотчетливы. В рамках эйдетического единого и множества единая связь и сращение не вполне отчетливы, поскольку виды не слишком склоняются друг к другу, не принадлежат друг другу и о них так не говорится442. По отношению же к стихиям и к состоящему из них двойственность неочевидна, так как определенного множества стихий в едином не прослеживается, поскольку их множество выявляется, скорее, при помощи силлогизмов, что связано со слитностью, если позволено так выразиться, «остихиивающих» своеобразий.
Да и что в этом удивительного, если первое, состоящее из стихий, то есть сущность, закладывает в стихии неопределенность: в ней сами виды — коль скоро, как мы говорили выше, выступая как стихии, они слиты,— и те соединяются между собой в единую нераздельность, даже если некоторым образом избегают ее, и бывает, что иногда как-то проявляют собственную энергию. В самом деле, виды как таковые не могут полностью объединиться; потому-то, когда речь идет о зримом и осязаемом, оказывается, что они всегда сосуществуют между собой, хотя и выступают как иные друг другу, а в применении ко всякой душе имеются сущностное, жизненное и познавательное ее начала, сами при этом также некоторым образом определенные. Подобное положение занимают в уме роды сущего, так как они есть стихии сущности, причем вовсе не сверхэйдетической и не простой, а именно эйдетической. Они оказываются также некими видами, пусть даже в сравнении с другими, скорее похожими на стихии и более простыми, и потому представляющими собой общность всех видов и предшествующей их множеству единой эйдетической природы. По этой самой причине в последней как-то проявляется видовое своеобразие, и тем не менее подобные виды вовсе не воспринимаются как стихии, так же как они в некотором отношении не выступают и в качестве частей. Ведь в эйдетическом космосе одно — это как бы эйдетическая сущность, которая есть некое однородное соединение видов, а другое — некоторая ее расчлененность, с одной стороны, и эйдетическая целостность, связующая эту расчлененность,— с другой; значит, в нем присутствует природа целого и частей. На ее основе в раздельности, подразумеваемой в эйдетической ипостаси, сами виды отстоят друг от друга, а то, что их соединяет, есть многообразное единое, или, как было сказано, монада и связанное с ней число443.
Далее, имеющей облик стихии и соединенной эйдетической сущности предшествует подлинная ипостась целого и частей, проявляющаяся в разделении первой сущности, являющейся подлинной444; по этой причине мы называем ее жизнью, потому что она уже обретает объем в своей протяженности, возбуждается в разделении и, как свидетельствует само ее название, кипит и варится и при этом еще окончательно не изливается в ипостась видов, но рассматривается именно в кипении и клокотании; потому-то мы и воспеваем ее как целое и части прежде всякой эйдетической природы, как будто она, покоясь, движется и, будучи объединенной, тем не менее в каком-то смысле претерпевает разделение, оказываясь целым вследствие объединенного и покоящегося, а частями — из-за разделяющегося и движущегося. Целое и части потому именно и есть единая природа, что она как единая одновременно еще и уже разделяется: уже — потому, что она не вполне объединена, а ещё — потому, что не окончательно разделена.
Итак, промежуточное состояние, которое мы называем двумя именами: целым и частями, поскольку оно рассматривается как составное, является единым; сущность же, стоящая превыше и его,— это просто объединенная природа, выступающая нерасторжимой, причем таковой она оказывается не как единое, а как объединенное; последнее же состоит из многого и появляется вслед за ним. Стало быть, сущность образуется из стихий и является первым обусловленным стихиями445; ведь это именно простая сущность, благодаря которой любая определенная сущность оказывается чем-то состоящим из стихий, ибо то, что повсеместно соединяется, мы и называем сущностью, подобно тому как Разделяющееся именуем жизнью, а уже разделенное — эйдосом, даже если каждое названное выступает в своей низшей, например телесной, форме. В самом деле, в этом случае сущностью оказывается то, что сплочено из четырех стихий, то же в ней, что приходит в движение и побуждает себя к разделению собственных энергий,— это некая жизнь подобного сплоченного, ибо она в каком-то смысле есть движение и приуготовление к эйдетической энергии и в то же время — к предшествующей последней ипостаси; пребывающая же в раздельности форма — это эйдос446. Если же всякая соединенная сущность выступает как разрушение стихий, или, если угодно, я скажу: как их совместная гибель447, то, конечно же, это происходит потому, что первая и простая сущность оказывается их соединением. Стихии такой сущности есть самые подлинные и первоочередные из всех стихий, поскольку они не смешиваются при слиянии их собственных пределов, как говорит о здешних стихиях Аристотель448, и не объединяются всего лишь в своем совершенстве,— напротив, в этом случае, как мы и говорили, смешиваются сами виды, оставив все остальное на усмотрение разделения и превращаясь в стихии эйдетической сущности. Потому-то в последней некоторым образом и проявляется собственная определенность, но при этом она не обладает ничем определенным в себе, как и эйдетическим и сливающимся под действием некой силы,— напротив, по своей природе подобные стихии собственно-объединенной и установившейся в единстве сущности предстают как целостные и полные449. Следовательно, ни виды, ни роды сущего не есть стихии, ибо последние сами оказываются некими видами. Так что же это такое? Ведь ни о чем другом по сравнению с ними мы говорить не в состоянии, так как они, конечно же, не являются просто частями, ибо последние — это что-то сверхвидовое.
3.3. Части и виды в качестве стихий
Поэтому необходимо исследовать и тот вопрос, чем именно оказываются сами части. Похоже, что это роды сущего, но не определившиеся эйдетически, каковыми мы их именуем и мыслим. В самом деле, мы мыслим и именуем все эйдетическое, причем я позволю себе сказать, что это не относится к умному и истинному, но что следует быть довольным, если подобное применимо к душевному; впрочем, те имена и мысленные образы, которые возникают у нас, нужно относить на счет эйдосов450. Итак, среди того, что рассматривается таким образом, эйдетическое и определенное необходимо отнести на счет описаний собственных признаков, а на долю родов мы оставляем только расчлененность, так как говорим о них и как о видах, и как о частях, однако и первыми и вторыми одновременно они, пожалуй, не будут. Так вот, не оказываются ли роды сущего частями как таковыми и, значит, не выступают ли они подобиями частей в собственном смысле этого слова? Похоже, что они, конечно же, отнюдь не все то, что в дополнение к свойству бытия частью обретает эйдетичность, а то, что предшествует тому и другому, каковыми они и являются. Или же они выступают как части, но при этом только как таковые, причем в простоте. Следовательно, так называемые роды сущего стали частями прежде, чем обрели собственное своеобразие в своих пределах; стало быть, и стихиями они оказываются точно в таком же смысле. В самом деле, мы, отбросив необходимость их расчленения, будем созерцать их как срастающиеся между собой, объединяющиеся в единое слияние и тем самым рассматривающиеся как стихии. Итак, в наличном бытии роды выступают как стихии451, а как части становятся стихиями в силу сопричастности, поскольку обладают чем-то, что срастается в ипостась целого, ибо именно целое и есть сращение присущих частям совершенных состояний в виде единого целого; так как эти состояния смешиваются между собой, в качестве них части становятся стихиями. Потому-то часто и возникает недоумение в том вопросе, почему целостность образуется из частей и почему в то же самое время части следуют за целостностью и вычленяются из нее, но тем не менее в наличном бытии остаются именно частями, поскольку свое собственное бытие обретают в расчлененности. Виды в своем наличном бытии обретают собственную определенность в соответствии с сопричастностью, части склоняются к единому и некоторым образом отпадают от раздельности, стихии же вследствие своего единства и того, что они отвергают не только разграничение, но и расчленение, занимают еще более высокое положение. Итак, вот каковы роды сущего, положение которых так или иначе тройственно.
Далее, только ли роды сущего восприимчивы к этой тройственной природе? Вероятно, таковы вообще все те виды, которые существуют, при том, что даже низшие среди них452 всегда содержатся в высших; вьгделяются же они в том или в другом месте — одни раньше, а другие позже, поскольку одни обладают скорее обликом целого и для них большее значение имеет нераздельность, а другие скорее похожи на частии теснее связаны с раздельностью. Впрочем, все те из них, которые в низшем разделяются, в высшем соединены, ибо откуда возьмутся разделенные, если ранее в высшем в виде соединенных между собойих не было? Да и выход за свои пределы есть не что иное, как разделение соединенного, поскольку в результате него все возникает не разом, а постепенно: одно появляется раньше другого, причем более общее возникает прежде частного. Ведь почему бы, при том, что в уме все, разумеется, пребывает в раздельности, в сущности не присутствовать всему в объединенности? Ибо объединенное вообще всегда идет впереди разделенного, так что и все как объединенное предшествует всему как разделенному. А почему роды сущего <в объединенном> соединены, будучи, как говорят453, стихиями сущности? Впрочем, скорее всего таковы только предел и беспредельное, о чем и ведут речь философы454; все же остальные виды в этом случае, вероятно, не будут изначально существовать в предшествующем всему объединенному, ибо тогда высшее начало было бы началом не всего, а только повсеместных соитий предела и беспредельного455 или так называемых деятельных заполнений и смешений сущего456. Действительно, если вершина всякого вида есть соединение всего видового множества, то почему бы и единому началу всего не быть соединением произрастающего из него и в дополнение приобретающего раздельность множества всего?
Так почему же, при том, что все стихии содержатся в сущности, а все части — в среднем чине, подобно тому как все виды — в третьем и разделенном, то есть в уме, мы тем не менее говорим о стихиях эйдосов, каковы роды сущего, и о состоящих из стихий предметах, например о животном, растении и о еще более сложных видах? В самом деле, почему бы и им не быть стихиями? Ведь живое существо — это стихия человека, а человек — стихия сухопутного457.
87. И разве не будет самым правильным следующее утверждение: последний из видов станет стихиен среди атомов458, поскольку вместе с другими образует некоего определенного человека?459 Вероятно, необходимо сказать так: нет ничего удивительного в том, чтобы все то, что является видами, было также частями и стихиями. Тем не менее среди них есть уже и те, которые оказываются скорее всеобщими и простыми и потому по природе более подходящими для слияния, так как они обладают не глубокими и не многообразными собственными очертаниями, а некоторым образом только что проявившимися и еще не включенными во множество, отчего эти очертания легко объединяются и как бы сливаются между собой. Чем дальше случается простираться их выходу за свои пределы, углубляющемуся и упрочивающемуся вследствие их собственных очертаний и делений на части, тем сложнее им достигнуть цели своего слияния в том, что состоит из стихий; при этом они образуют не подлинное единство, а на деле как бы разверзающееся460 в делении. Поэтому то, что ближе к объединенной природе, как представляется, есть стихии в большей мере, нежели виды, а то, что дальше от нее,— это скорее виды, чем стихии, что же касается промежуточного, то оно занимает среднее положение между предельными состояниями синтеза и простоты. Итак, роды сущего есть, скорее, стихии, а низшее среди составных вещей — виды, и их примеры — человек, конь и, вообще говоря, те виды, которые прежде всего будут именно видами. Промежуточное между ними — то, что называют взаимно подчиненным461,— по отношению к состоящему из стихий занимает положение самих стихий, а в отношении того, что предшествует стихиям,— составленных из стихий предметов; таким образом, одно и то же оказывается в этом случае на равных основаниях и состоящим из стихий, и самими стихиями.
Стало быть, не выступают ли те виды, которые более всего таковы, в каком-то смысле в качестве стихий атомов? В самом деле, они, разумеется, не могут быть стихиями других видов, так как не являются последними среди видов. Впрочем, они, конечно же, не будут и стихиями атомов, ибо в этом случае наряду со всеми различиями у них должно существовать и нечто общее462. А каковы могли бы быть атомарные различия отдельных вещей?463 Пожалуй, лишь случайные. Однако случайное не образует сущности464, а такие различия, пожалуй, сущностны. Таким образом, при этом они появляются первыми, если только на самом деле собственны для атомов, так что, сами будучи атомами, они станут обладать и собственными идеями. В противном же случае будет существовать некий вид465, который становится целым и разрушается и при этом не является ни монадным, ни содержащим атомы. Так вот, правильнее всего утверждать, что существуют два способа разделения: [1] разлагающий единое на многое при посредстве видообразующих различий и относящийся ко всем видам и [2] запечатлевающий одно и то же целое во множестве материй466. Соответствующее целое называется атомом прежде всего потому, что во всех случаях оказывается именно целым и не обладает никакой вызывающей различия изменчивостью. Значит, не противостоит ли различие атомов только материи? Однако какое видовое различие вообще могло бы противостоять материи? Скорее всего, отличию в соотнесенности с ней появиться невозможно, а если бы оно было зафиксировано в качестве вида, отличного от того, который связан с материей, то само стало бы отличающимся эйдосом, подобно тому как изображение Сократа в камне отлично от его изображения в меди467. Ведь эйдос, обладающий общей сущностью с материей, некоторым образом изменяется вместе с тем, что положено в его основу. И если бы материя была безвидной, но как-то различалась бы в возможности, то в согласии с бытием в возможности появилось бы и бытие в действительности — с той лишь поправкой, что в этом случае к ней не прибавилось бы ничего эйдетического и различающегося468. Впрочем, сейчас оставим это в стороне.
Я говорю о том, что от природы существует следующее свойство: при множественности положенного в основу один и тот же общий эйдос часто воспринимается как один и тот же и неразличимый469. Так что же? Один атом вовсе не является иным другому? Скорее всего, он таков только в связи с пребыванием в том или ином положении, а эйдос тем не менее является одним и тем же, поскольку, если бы кто-нибудь оставил материю без внимания, эйдос вообще оказался бы одним и тем же. Следовательно, не получится ли так, что атомы вовсе не будут разными по своему эйдосу и, значит, не станут различаться и в силу инаковости, если только их различие связано именно с материей, ибо инаковость также есть эйдос? А если, как говорят, отличие связано с чио-лом4 , то ведь и число — некий эйдос и в каждом случае оно неотличимо, и, стало быть, инаковость двух монад есть нечто неразличимое.
Так почему же эйдос вообще получает свое определение в согласии со всем перечисленным, а эйдос Сократа — уже нет? Вовсе не потому, что заужено представление об эйдосе, а потому, что нечто вот именно таково471. В самом деле, человек существует ничуть не меньше в согласии с ипостасью того вида, о котором говорится, что он есть, а особенное — вследствие чего-то различающегося вообще. Итак, нечто неотличимо от другого нечто, ибо и то и другое — это именно нечто. Следовательно, Сократ не является иным по сравнению с Платоном, поскольку в этом случае главную роль играют соотнесенность и тождество472. Почему же, в то время как человек является единым, с одной стороны, имеется эйдос вообще, а с другой — атом? Ибо разве случайно то, что существующее в некотором отношении, с одной стороны, причастно общему, а с другой — чему-то определенному, или атому? Скорее всего, необходимо сказать, что с общим связан смысл, благодаря которому среди атомов возникает некая общая для них всех сопричастность, каковую мы и называем общим эйдосом во многом, и такое суждение категориально высказывается обо всем вместе и воспринимается как общее. То же, что существует в каждом из атомов, тождественно общему и бытию каждого каждым, так же как и видовому своеобразию и целостной и всеобъемлющей природе эйдоса, ибо нет эйдетического, не существующего повсюду и в каждой вещи. Будучи одним и тем же во всем, эйдетическое расчленено по самой своей ипостаси и отстоит от самого себя, поскольку разорвано в определенности, подобно тому как тело обособлено от самого себя в виде некой протяженной и обладающей объемом вещи, хотя как эйдос оно всегда одно и то же и неотличимо от другого.
В самом деле, природа, проделав путь от первого к последнему, похоже, совершила его как природа отмеренная и вместо одной крайности впала в другую. Это можно объяснить многими способами, и пример такого объяснения уже был приведен. Действительно, каждый эйдос в своей простоте есть всего лишь единое, так как быть двумя ему невозможно, на что указывает Платон473. В низших вещах атомы есть многое и тождественное, так же как и множественные изображения одного и того же единого, ничем не различающиеся между собой по своему виду, но при всем том многие, поскольку у них, зачастую тождественных, имеется один и тот же порождающий эйдос. При этом правильнее всего утверждать, что рождение также будет двояким: одним — в согласии с видообразующими различиями общих эйдосов, а другим — в соответствии с рассеянием одних и тех же вещей, неразличимым или по причине связности, как это имеет место в применении к телам и качествам, или же по определению, что относится к монадам, людям, лошадям и тому подобным эйдосам. Претерпевают или созидают это неразличимое рождение многих атомов не только те виды, которые более всего являются таковыми, но и все имеющиеся у них видовые различия и выделяемые наряду с ними роды. Ведь, по-моему, атомами будут и «живое существо», и «разумное», и «смертное»474, и ясно, что их рождение неразличимо, в то время как атомарность связана с различиями475. То же самое претерпевает и многое, и все, как, например, роды сущего и любая природа, выходящая за свои пределы,— вплоть до атомов,— а это касается всякой эйдетической природы476. Вслед за этим в связи с высшими началами необходимо исследовать то, совершают ли и они некий выход за свои пределы, а по поводу тех, каковые представляются выходящими за свои пределы — то, как именно совершается этот выход.
Что же касается того, о чем мы говорили сначала, то виды, более всего являющиеся таковыми, не существуют среди атомов как стихии, точно так же и как роды477, но сами всегда состоят из стихий478 и являют себя как тождественные, подобно тому как единое тело в качестве смеси, состоящей из стихий, присутствует и вот в этой части, и вон в той, будучи целостным слиянием четырех стихий, во многом различающихся между собой. При этом я не знаю, есть ли смысл далее распространяться по данному поводу.
3.4. Соотношение стихий и состоящего из них
88. Вернувшись к исходной апории еще раз, давайте рассмотрим то, что стихии разве только по ипостаси и в качестве именно стихий являются худшими, нежели состоящее из них, а по природе своего своеобразия стоят выше его. Например, живое существо как общее и Целое предшествует человеку, в самом же человеке оно — его стихия и нечто более частное479. А не получится ли то же самое и в применении ко всем стихиям вообще? Похоже, что, по крайней мере, некоторые из них не идут впереди состоящего из них. Например, никто не может даже предположить, будто стихии космоса предшествуют самому космосу480. Не относится это и к стихиям первой сущности, ибо, пожалуй, она первая является тем, что состоит из стихий. Скорее всего, и в применении ко всему иному, когда нет ничего предшествующего состоящему из стихий, они также не могут существовать до него. В самом деле, до первой жизни не могли бы существовать ее собственные стихии, до первого ума — те, которые составляют ум, а до первой души — душевные481. Стоящие выше отдельных целостностей общие стихии выделяются позднее, среди более частных вещей, причем они становятся особенными в большей мере, нежели вечно расчленяющиеся предметы, и частными более, нежели их собственная целостность. Части, да и виды, суживаются вплоть до собственно монады и целостности, и то же самое происходит со стихиями собственной сущности, которую мы полагаем их слиянием. Потому-то в применении к ним и кажется, будто первенствуют собственные признаки их природы, а, разумеется, не сами стихии, ибо последние одинаковы по своему роду и некоторым образом соименны: стихии человека оказываются человеческими, а коня — конскими, и то же самое относится к стихиям тела и души и равным образом — Солнца и Луны, и даже к общим для неба, поскольку они небесные, и общим для всего космоса, так как они космические.
Стало быть, стихии всегда обретают свой облик в связи с характером того, что состоит из них,— ведь и эйдосы получают его в соответствии с характером собственной монады482, поскольку мы говорим об умных, о душевных и о внутрикосмических эйдосах. Потому необходимо полагать, что стихии жизни являются жизненными и что они «живут» в меру участия в производящей их из себя природе, или, вернее, что в своем наличном бытии ее стихии будут множеством, а как само одновидовое — образующимся из стихий, составленное же из того и другого — это жизнь. По крайней мере, таким образом в своем наличном бытии обретают целостность и части, поскольку они являются именно частями целого и вносят свой вклад в его наличное бытие, ибо точно так же и множество заключенных во всяком числе монад вносит вклад в его монаду. Поэтому триадой будет не только единое триады, но и множество, состоящее из трех монад, так что и в применении к сущности правильно было бы сказать, что стихии обретают в ней сущность в наличном бытии, так как произрастают из нее и часто образуют ее названным способом. Следовательно, нельзя говорить так, как мы часто это делаем: что единичные стихии сущности, вносящие в нее свой вклад, становятся сущностными, ибо это вторая сущность, следующая за той, которая выступает как однородное своеобразие, и множество обретает сущность именно в ней483, поскольку стихии в сущности являются самим множественным. И если бы те же самые стихии в каком-то смысле появились в едином, то они были бы также и его стихиями. В самом деле, единое, в основании которого лежит сущность,— это как бы единичная сущность и единичное, состоящее из стихий, у которого существуют и единичные стихии, подобно тому как стихии ума изначально предстоят в единичном уме484.
А не получается ли, в свой черед, что своеобразие стихий изначально предстоит их ипостаси и в этом смысле? Скорее всего, здесь самое правильное — сказать, что среди богов заранее задано все то, что находится в зависящих от них сущностях. В связи с таким предвосхищением не может возникнуть никакой апории,— но только в том случае, если нечто, имеющееся в более частных сущностях, будет предвосхищено в более общих. Итак, почему же просто живое существо предшествует живому существу в человеке? Пожалуй, потому, что они не тождественны и по своему своеобразию живое-в-себе485 не есть то, которое занимает свое положение как стихия по отношению ко множеству видов. Последнее есть только собственный признак первого в том, в чем оно является стихией и всего лишь живым существом, коль скоро даже собственный облик оно обретает благодаря наличному бытию человека, первое же — это другая природа, охватывающая все множество живых существ вместе взятых и любые виды, связанные с понятием живого существа, ибо она оказывается и человеком, и конем, и Солнцем, и Луной, и всеми другими сущими486. Поэтому от такого живого существа происходит перечисленное, именующееся живым существом по одной из стихий, поскольку ведь и жизнь, будучи всем, получает свое имя лишь от одного собственного признака, связанного с кипением. В самом деле, уже много раз было сказано, что имена принадлежат определенному и расчлененному, а скорее всего — собственным признакам и, кроме того, самим общим эйдетическим ипостасям, на основании которых они по аналогии распространяются и на части, а вслед за ними и на недалеко от них ушедшие стихии. К целостным же совокупностям имена неприменимы,— ибо чем могло бы быть полное имя, которое будет относиться ко всем вещам и соответствовать всеобщему космосу? Действительно, если космос получил свое имя на основании одной лишь характеристики — упорядоченности487, то, стало быть, и жизнь удостоена своего имени в связи лишь с кипением и бурлением, имеющими место при разделении, и тем не менее она является всем, так что и живое существо называется так в силу причастности жизни и некоему кипению, поскольку оно пробуждено к влечению и ощущению. Следовательно, это живое существо не является тем, которое мы называем стихией в человеке, ибо это только своеобразие, обретающее общую с человеком сущность488. В самом деле, человек — это просто эйдос человека, и первый человек есть все те люди, взятые вместе, которые определены так по своему виду и являются скорее частными. Стало быть, человек в земном человеке в качестве стихии, пожалуй, не будет произведением высшей природы, но окажется всего лишь своеобразием, на основании которого тот и получил свое имя, подобно тому как результатом природы созерцания является то, что <земной человек> удостоен зрения489. То же самое касается и всего остального — того, что рассматривается в связи с земным человеком и в связи с просто человеком. Ведь, как было много раз сказано, каждая вещь вместе с собой производит на свет собственные стихии как принадлежащие к одному с ней чину и виду.
Итак, почему же то, что по природе стоит ниже иного, могло бы стать единоприродным стоящему выше, хотя применительно к двум занимающим равное положение ипостасям об этом говорить не следует?490 В самом деле, не являются же порождением моего или твоего тела одинаковые по своему виду стихии. А если они таковы, потому что в этом случае речь идет об атомах491, то, по крайней мере, стихии-то сирийца и ливийца или же лошади и осла по своему виду не тождественны. Ну а собственные признаки окажутся одними и теми же — как мы говорим, высшими и низшими492. Пожалуй, дело так и обстоит, но — если провести исследование с позиций истины — в несколько ином смысле, так как при более детальном рассмотрении они не будут представляться одними и теми же, поскольку выход за свои пределы одного и того же совершается вместе с различением и при этом в различающихся вещах недопустимо наличие общего и неразличимого; однако мышление, воспринимая именно это последнее вследствие отдаленности этих вещей или некой собственной совершенной подслеповатости, обращается к так называемому общему, не принимая при этом во внимание не только мелкие различия в нем, но даже и значительные, поскольку полагает, будто живое существо вообще присутствует и в смертном, и в бессмертном, и, что еще более парадоксально, и в уме, и во мне самом как живом существе, ибо, как говорят, все перечисленное и выделено на основании бытия живым существом493.
Так что же, нет ничего общего? Если общее тождественно и едино по своему виду, то, пожалуй, не может существовать ничего общего для того, что изменчиво по своему виду. Если же общее — это то, что не оказывается совершенно другим,— при том, что общность некоторых вещей доходит до их родства,— то нечто общее могло бы существовать. И что же, оказывается ли это нечто в качестве общего и родственного единым и тождественным? Похоже, подобное суждение служит причиной всяческих зол, поскольку, когда мы слышим слово «иное», наши мысли тут же устремляются к совершенной раздельности, а когда слышим «тождественное», они обращаются к полному слиянию, причем происходит это, я думаю, потому, что по своей слабости они обращаются на низшее и сталкиваются с отдельными эйдосами, не будучи в состоянии совершать свой путь в согласии с мерами ипостаси каждой вещи494. Итак, среди различающегося не следует выделять общее, не являющееся различным, а среди тождественного — различное, не выступающее общим, ибо имеется также и нечто среднее между общим и особенным.
А не идут ли впереди отдельных стихий соименные им собственные признаки? Однако, по крайней мере в связи с рассматриваемым способом разделения, подобное не могло бы иметь места. В самом деле, стихиям, частям и видам случается пребывать в некой отделенности друг от друга, и притом отделенность эта разная в различных случаях. Например, триада образуется из трех монад, а тетрада — из четырех, причем, разумеется, не таким путем, который она, казалось бы, предполагает заранее: из трех предшествующих и четвертой495,— напротив, деление для каждой из монад является собственным, поскольку монады в смысле количества есть нечто более общее, нежели менее общее число496. Ведь деление надвое оказывается чем-то иным по сравнению с общим эйдосом монады, подобно тому как иными выступают деления натрое и на четыре. Таким образом, деление надвое является иным и по отношению к живому существу, даже если бы кто-нибудь и говорил, что одно живое существо разумно, а другое неразумно. И если бы этот некто, взяв разумное живое существо, не являющееся живым существом вообще, вновь произвел бы его деление, например на бессмертное и смертное, то он тем самым определил бы три стихии человека: живое существо. разумное и смертное, и эти стихии логически противостояли бы смертному в качестве третьего, но уже не были бы одними и теми же, так же как и по виду тождественными предшествующим им: ни разумному, ни живому. Эта триада стихий была явлена в первом человеке, причем сами стихии выделились благодаря ему, будучи некоторым образом собственными для него497.
Так что же, разве вторые в первых, так же как и более частные предметы в более общих — скажем, три стихии человека в живом существе,— вовсе не соединены между собой изначально? Скорее всего, и в этом случае стихии обретают свое соединение наряду с целым — ведь и в приведенном примере человек как таковой заключается в их соединении, ибо вторые вещи всегда заключаются в первых498: прежде всего целые в целых, а вместе с целыми и в целых — части. То же самое относится к стихиям, видам и, вообще говоря, ко множествам в пределах их собственных монад. Равным образом и сущность содержится в объединенном, будучи нерасторжимостью собственной генады. В самом деле, в таком случае в нем присутствует и генада, являющаяся нерасторжимостью сущности. Стало быть, тогда стихии их обоих в этом объединенном нерасторжимы и соединены друг с другом. Потому-то при этом нет ни стихий, ни того, что состоит из них, поскольку нет также никакой определенности. Следовательно, здесь в стихиях предвосхищены части, но в этом их соитии, а в частях — также и виды, но лишенные собственных очертаний, выступающие только в качестве их расчлененности. Таким образом, при данном способе деления стихии космического тела неделимо заложены в сверхкосмическом свете499, каковым бы и сколь великим бы он ни был. Точно так же и стихии человеческого тела в подлунном космосе вступают в нерасторжимое соединение, ибо все они как общие для всех животных, растений и металлов изначально предвосхищены в едином соединении, в низшем же они выделяются как особенные, в таковом качестве предшествующие в отдельном ему самому; я говорю «в таковом качестве» потому, что они предшествуют ему отнюдь не в этом разделении и не при видообразовании. Следовательно, все они одновременно и не существуют заранее, и кажутся таковыми, причем при более всего законченном с точки зрения рассматривающего его, совокупном и общем способе видообразования500.
3.5. Эманация стихий, частей и видов
Необходимо иметь в виду, что стихии в каждом случае появляются на свет вместе с состоящим из них единым и обладают своим наличным бытием вместе с наличным бытием того, и точно так же части всегда сосуществуют с собственной целостностью; что же касается видов, то они, испытывая тягу к единству вовсе не так, но выделяясь в качестве видов благодаря собственным своеобразным чертам и стремясь пребывать при самих себе, по справедливости, вершат выход за свои пределы двумя путями, и один его способ, подобный возникновению частей, имеет место тогда, когда они занимают положение описанных частей. В самом деле, таковы виды в уме, ибо они образуют в нем множественное, подобно тому как логосы души созидают ее многообразие, а логосы природы501 — ее множественность. Пожалуй, и в пределах единого телесного эйдоса могло бы существовать подобное пестрое множество, аналогичное многообразию природы, души и ума. Таковы, как мы говорили, неодинаковые части, получающие свое название на основании целостного эйдоса, так как они являются человеческими или лошадиными (потому, что это природные и душевные логосы, и потому, что отдельный логос, разумеется, не есть ни душа, ни природа, ни человек, ни конь, но лишь голова, рука или нога502) и тем не менее вносят свою лепту в целостного человека и в каждую целостную вещь, поскольку часть, как полагает великий Парменид, не является ни тождественной, ни иной целому, но каким-то образом и той и другой503. Итак, подобные виды, так же как части и стихии, существуют и возникают вместе с общим и единым.
Иной выход видов за свои пределы имеет место тогда, когда каждый из них в своей самодостаточности обособляется и от целого504, и от тех видов, которые ему логически противостоят; этот путь кажется более совершенным, но на самом деле принадлежит тому, что менее совершенно и что ослабило свое согласие и тягу как к целому, так и к самому себе и потому появилось на свет, насколько это возможно, в рассеянии. По крайней мере, душевный, а равным образом и природный логос является лучшим, нежели вот этот феноменальный человек, а логос человеческой души во всеобщей душе оказывается лучшим, чем душевная сущность, ставшая самостоятельной.
Таким образом, для видов, существующих не наподобие пчелиного роя, а как бы автономно, возможен и такой выход за свои пределы5О5. А поскольку титаническое расторжение видов506 не вполне одержало верх, они обладают некой соотнесенностью между собой, создающей видимость хора, войска507 или, вообще говоря, какого-то целостного строя, о котором <Платон> говорит, что он образовался из целостностей508. Однако подобное образование, в свою очередь, оказывается и частями и целым, так что в этом случае лучше вести речь о монаде и разворачивающемся из нее числе как и о некой последовательности, проистекающей из своего начала, и об ослаблении, основанном на изменчивости видов, возникающей как результат их собственных видовых различий. Действительно, скорее всего именно в таком положении и будет находиться это устроение, оказывающееся единым и вслед за таковым — многим. Если же все оно будет единым, то, разумеется, наподобие того, как единым является хор вместе со своим корифеем509.
Впрочем, то, как дело обстоит в данном случае, мы обсудим ниже, когда поведем речь о совокупном выходе за свои пределы, рассматривая вопрос о том, имеет он отношение к первым началам или нет. Пока же давайте согласимся с тем, что стихии всегда появляются на свет вместе и одновременно с сущностью, части — вместе с целым и наряду друг с другом, что же касается видов, то все те из них, которые выступают в качестве стихий, возникают вместе с тем собственным для них, что состоит из стихий, все те, которые существуют как части,— вместе с целым, а все те, которые в эйдетическом выходе за свои пределы выделились как самостоятельные и соотносящиеся лишь с собой, возникают в рассеянии и как автономные. Точно так же любое число опирается на собственную монаду — более общее на более частную. Впрочем, и эти виды не вполне автономны и не только обособлены друг от друга и от собственной монады. В самом деле, они причастны своей общности наподобие частей, а монада участвует в их природе наподобие целого. Поэтому кажется, будто виды на равных основаниях являются частями однородного устроения. Один момент их положения связан с расчлененностью, а другой — со всяческим единением эйдетических вершин, подобным тому, как прямые сходятся в центре; в этом единении они становятся как бы стихиями одной их общей сущности.
89. Вновь вернувшись к самому началу, давайте скажем, что в каждом случае многое так или иначе оказывается только стихиями, частями или видами510. Среди последних одни объединены в эйдетическую сущность, и их-то мы и называем эйдетическими стихиями, а другие усматриваются в делении на части — и о них мы говорим как об эйдетических частях; примером первых являются четыре стихии нашего тела, а вторых — его части, а также гомеомерии. В самом деле, последние также будут частями, причем эйдетическими, даже если они имеют один, но расчлененный511 эйдос, и то же самое тем более относится к негомеомерным частям. Виды же, соотнесенные с самими собой, являются отдельными вещами, каковы тот или иной человек, Солнце и Луна. В свою очередь, если эти самые вещи берутся в связи с третьим различием, предельными состояниями мыслится имеющая облик стихий природа, средоточием единого и соединением с ним — целое и части, а свободным от этого собственного облика отдельным, каково происходящее от монады число, а от начала — последовательность, представляется достижение самодостаточной вещью среди других таких же своей завершенности, и в большей мере на свет ничто не появляется. Действительно, большая мера <выхода за свои пределы> будет означать полное рассеяние всего, чуждое ему и связанное с совершенной разбросанностью, которой может быть свойственна лишь неупорядоченность, поскольку в этом случае все никак не соотносится с единым512. Подобное состояние порой возникает в пределах всего, но затем все вновь восходит к единому и как-то соотносится с ним.
Впрочем, как я уже говорил, пусть рассуждение о выходе за свои пределы пока будет отложено. При этом исследование подобных вопросов необходимо отложить до названного рассуждения, коль скоро каждое множество двойственно; например, что касается видов, то одно их множество по природе связано с умом, каково то, что принадлежит уму, а другое — со многими умами, следующими за единым умом. В самом деле, и по отношению к душам одно множество — это то, которое образуют души, следующие за единой душой, а другое — то множество душевных логосов, которое заключено в единой душе, и ему, как мы будем говорить ниже, аналогично множество различных видов, расположенных в уме513. То же самое исследование необходимо будет провести и в применении к частям и стихиям: образуется ли одно их множество как внутреннее, а другое — как внешнее. Однако пусть пока все это будет оставлено в стороне.
3.6. Многое как таковое и единое
Поскольку речь о многом идет или как о стихиях, или как о частях, или как о видах, ясно, что бытие многим как таковым не тождественно бытию видами, частями или стихиями. Так вот, применительно ко всему названному каждое множество есть определенное, вот это множество. Что же касается всего лишь множества и просто многого, то чем и множеством чего они могли бы быть и где могли бы располагаться? Действительно, такое множество идет впереди разделенного на три части многого, так же как и трех его представлений. Значит, оно предшествует и стихиям, а потому и состоящему из них, так как последнее по природе родственно стихиям и относится к вещам одного с ними порядка. Так множеством чего же оно является? К чему относится просто многое так, как стихии относятся к составленному из них? Похоже, что оно связано с единым точно так же, как части — с целым. Ведь единое не занимает того же положения, что и нечто определенное среди многого, оно как бы предшествует ему и оказывается среди многого как бы монадой и всеединым. Итак, будучи всем как результатом единого, многое само вносит вклад в его ипостась, так же как части вносят вклад в ипостась целого, а стихии — в ипостась состоящего из них, ибо мы не говорим о том, что единое и многое являются двумя сущностями,— поскольку не утверждаем этого и применительно к состоящему из стихий и к самим стихиям, к целому и частям и к единой монаде ума или же к определеннои совокупности видов в нем,— а ведем речь о составном едином и многом. Таким образом, само простое единое как таковое необходимо мыслить в качестве многого, как, например, единый и многий отдельный эйдос514.
Итак, что же такое многое? Не монады ли оно? Однако монады — это, разумеется, эйдосы, многое же предшествует им. А не части ли оно? Но многое идет впереди даже стихий, в то время как те предшествуют частям. Не является ли самым правильным утверждение, что многое является стихиями? Однако стихии при образовании смешанной сущности того, что состоит из них, соединяются между собой, многое же стремится быть множеством единого. Стало быть, если это было бы так, то разве стихии не смешивались бы между собой? Или же многое в них было бы разделено внутри себя?515 Однако это не имеет никакого смысла. Рассматриваемое многое отнюдь не смешивается внутри себя, но, будучи еще более неделимым и единственным, нежели стихии, вместо смешения устанавливает единство и вместо создания смеси образует единое, ибо данное многое соотносится с единым, а вовсе не с сущностью516. А отделены ли такие многие вещи друг от друга или связаны между собой? Скорее всего, связность и раздельность располагаются среди видов, сами будучи подлинными видами, так что даже применительно к частям ни о том, ни о другом говорить не стоит,— ибо части рассматриваются как виды только в ходе разделения, а не в окончательной раздельности. Что же касается стихий, то они тем более избегают связности и раздельности, пусть даже и пытаются хоть как-нибудь, да различаться между собой. В самом деле, вместе с одной стихией свой вклад каким-то образом вносит и другая, и тем более это относится к частям, а в еще большей мере — к видам. Простое же многое не стремится к тому, чтобы привнести во множество какие-либо различия, ибо в этом случае то, что на самом деле не является ничем иным, кроме всего лишь многого, окажется различающимся, а не простым многим. Потому-то, что бы в его пределах кто-нибудь ни взял бы — даже если бы речь шла обо всем вместе,— он не будет различать ничего, кроме многого, так как последнее — не одно и не другое, и не «вместе», и не «все», поскольку названное — это различия и разнообразные собственные признаки; напротив, оно окажется только многим и множеством, при этом не существующим как принадлежность самого себя и не пребывающим в качестве самих себя. Действительно, подобное множество — это не стихии, не части и не многие виды, которые принадлежат самим себе, так как соответствующее всему перечисленному множество не способно возникнуть самостоятельно, но всегда образуется вокруг некоего определенного единого: или монады, или целого, или смешанного. Следовательно, в таком случае простое многое возникает вокруг простого единого, а множественность является результатом единого517, подобно тому как разделение на части — результат целого, как бы его свойство и выход в самом себе за свои пределы, причем в смысле его собственной природы, достигшей своего совершенства.
На этом основании при непосредственном восприятии множественности существует многое, которое во всех случаях сочетается с единым. Правильнее всего говорить, что таким многим будет беспредельное множество, описанное в «Пармениде»518: оно беспредельно потому, что не обладает пределом, который, в свою очередь, не есть множество519,— напротив, оно повсеместно является многим, причем даже в отсутствие повсеместности, ибо оно, скорее, присутствует во множестве мест, а эта самая «многоместность» по своему положению есть не что иное, как всего лишь многое. Кроме того, таково единое многое, с которого в первой гипотезе520 начинаются апофатические суждения и которое первым начальствует над любыми отличиями тех вещей, которые уже некоторым образом различаются между собой. Вследствие этого оно и называется единым многим, поскольку вобрало в себя воспроизводящую причину того, что появляется от него на свет в каком бы то ни было расчленении. Исходя из этого, сыны халдеев прославляют его как исток истоков521, Орфей — как «Мудрого, семя богов несущего»522, финикийцы — как космическую вечность523, поскольку оно соединило в себе все.
Однако у нас принято связывать названное524 с низшим чином умопостигаемого; умопостигаемое же есть составное единое и сущее, а рассматриваемое — это единое многое, а вовсе не единое сущее. Платон показал, что единое сущее есть беспредельное множество, а не только единое525. Настоящее же рассуждение опирается на понятие этого самого так называемого простого единого многого, а вовсе не единого сущего. В самом деле, единое одновременно отделено от сущности и связано с ней, более того, оно само является единичной сущностью, подобно тому как двояка и жизнь: одна — единичная, а другая — разделяющаяся, и двояк ум: один — это генада, а другой — сущностный эйдос526. А где могло бы находиться простое единое, выступающее как начало всех двойственных выходов за свои пределы: единичных и тех, которые в каком бы то ни было смысле называются сущностными?527 Не правильнее ли говорить, что единое сущее, которое мы именуем объединенным, поскольку оно предшествует единому и сущему, будет самим простым единым? Ибо оно, пожалуй, будет единым по преимуществу, причем именно простым единым, несмотря на то что идет впереди единого и сущего. Действительно, единое и сущее в нем не противостоят друг другу — напротив, единое некоторым образом предшествует и разделению, и противопоставлению, и точно так же оно есть именно простое, поскольку не является ни сущностью, ни жизнью, ни умом. Да и как бы мог существовать предел у объединенного?528 В самом деле, то, что не есть первое объединенное, не будет и просто объединенным. Если же нечто — это объединенное, то в том случае, когда единое на самом деле выступает в качестве того, что предшествует единому и сущему, каково объединенное, оно будет и единым. Тем не менее рассуждение подразумевает простое единое, которое есть всего лишь единое, а вовсе не единое сущее. Ведь простой ум — это первый ум, простая жизнь — это первая жизнь, а простая сущность — это первая сущность529. Следовательно, необходимо, чтобы первая генада не была сущностной, так же как жизненной и умной, а оказалась просто генадой, которая есть всего лишь генада, а не именно вот эта генада.
Впрочем, третье среди умопостигаемого, пожалуй, необходимо располагать именно в умопостигаемом, причем следует считать его низшим пределом умопостигаемого, а между ним и единичной сущностью помещать простое единое как первое и как простого бога, если уж, как говорят, единое и бог — это одно и то же530. Поскольку то, что стоит превыше, нельзя называть даже богами, оно-то и есть единое многое. Объединенное и единое многое сущее, идущее впереди и того и другого, было рассмотрено Парменидом; таково беспредельное множество, поскольку оно отделено от единого сущего531. О едином многом между тем сейчас говорится в другом смысле — в том, в котором о начале речь идет как о том, что происходит от начала332, а о монаде — как о числе. Ведь по этой самой причине выход за названные пределы совершается как разделение, поскольку простое единое было многим, и на этом основании все, выходящее за свои пределы как собственное внутреннее множество в зачатке, порождает из самого себя внешнее множество.
Стало быть, в таком случае либо необходимо считать, что простое единое появляется на свет от какого-то объединенного, подобно тому как из определенной генады возникает простая сущность сущностной генады, либо следует располагать единое сущее словно бы, если позволено так выразиться, подле личины (άμφιπρόσοπον). Ведь при этом воспевается и предел умопостигаемых вещей, и исток умных, и потому в качестве истока того, что возникает вслед за ним, единое сущее оказывается единым многим в соотнесенности со следующим за ним, уничтожающим свое соединение и с единым и с сущим в ипостаси простого единого, а в качестве предела умопостигаемого будет чем-то объединенным и единым сущим многим, но не простым, а просто единым многим. Пожалуй, и к той и к другой гипотезе можно было бы прийти на основании свидетельств теологий, получив подтверждение второй в халдейской и орфической, а первой — в египетской и финикийской533. Итак, истину могли бы ведать лишь сами боги; нам же пока следует пребывать по этому поводу в недоумении, ибо соответствующие вопросы нам, пожалуй, стоит исследовать в дальнейшем.
Значит, правильнее всего говорить о том, что простое единое, которое и есть всеединое, а также единичное и сущностное идут впереди объединенного, простое же объединенное следует за ними, появившись как простое сущее и простая сущность; в нем всякая сущность пребывает как слитая: и так называемая единичная, и логически противостоящая ей сущностная, поскольку, разумеется, и в той и в другой присутствует сущность как таковая. В самом деле, одна сущность — единичная, другая — сущностная, высшая же — просто сущность, предшествующая определенности и в самой себе обладающая и так называемой единичностью, и сущностностью. Потому необходимо предположить, что она является простой сущностью, и та сущность, которая получает свое определение вслед за ней, порой оказывается так называемой единичной, а порой — сущностной, причем о последней лучше говорить как об объединенной и смешанной, поскольку именно тогда она логически противостоит единичной. И если подобное суждение верно, то все представления согласуются между собой: и вырабатываемые на основе рас-суждений, и встречающиеся у теологов; речь об этом пойдет ниже534.
Однако давайте вновь вернемся к тому, что было сказано сначала: что множество, соотнесенное с разделенной надвое сущностью, является или стихиями, или частями, или видами,— конечно, при том, что единичная сущность оказывается объединенной, а то множество, которое связано с предшествующей им обоим объединенной, единой и простой сущностью, есть просто многое и, как говорит Платон, беспредельное множество, попросту неопределенное, поскольку в нем еще не проявилась инаковость535. Так вот, почему оно оказывается многим, если внутри самого себя нераздельно? Пожалуй, подобно тому как единое существует в качестве объединенного, многое, будучи как бы течением и ослаблением объединенного <...> такое многое является результатом предшествующего единому и сущему объединенного. Если же оно — результат объединенного, а не единого, то необходимо иметь в виду, что предшествующее простому сущему простое единое в качестве составного властвует над простым многим. В самом деле, второе начало есть многое, связанное с простым единым, подобно тому как оно соотнесено с ним в том случае, когда речь идет о силе отца536. Итак, первое из двух начал оказывается простым единым, второе — простым мноним, сущность же в качестве простой, то есть неопределенной,— третья; среди низшего от них происходят два ряда вещей — генад и сущностей537. Здесь-то, в согласии с истиной, и начинается разделение многого, которое происходит благодаря появившейся инаковости; многое становится стихиями, частями или видами. В объединенном же множество существует прежде всего этого, причем потому, что в нем единое и множество слиты в тождестве. Ведь подобно тому как единое в нем не было разлучено с сущим, так и множество не было расторгнуто во многое,— напротив, в объединенной природе оно осталось сопряженным с единым, и в этом случае можно вести речь не о едином и не о многом, а только о составном как о предшествующем тому и другому объединенному. Впрочем, подобные же результаты мы получаем путем основанного на аналогии сравнения с низшим, поскольку в объединенном нет сущих вещей, но есть как бы непознаваемые, аналогичные известным538. Поэтому высшее в объединенном мы называем смешанным и состоящим из стихий, промежуточное — целым и образованным из частей, а третье — монадой и сопряженным с ней эйдетическим числом. И вообще, о том, что третье есть ум, второе — жизнь, а первое — сущее, мы ведем речь на основании тех вещей, которые среди низшего пребывают в раздельности, являя собой совершенное и полное отвержение нерасторжимости.
* * *