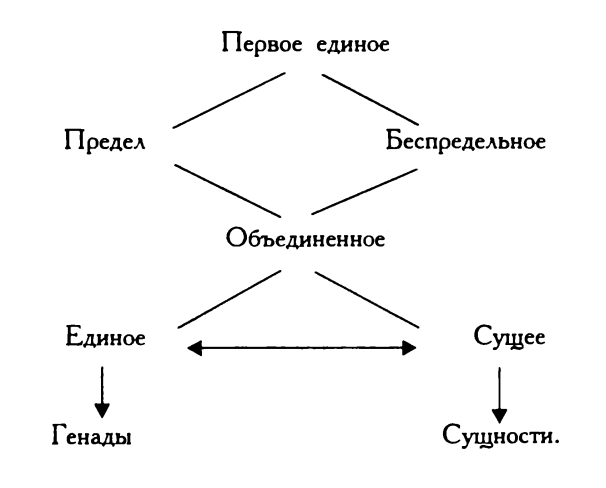Раздел III
ЭМАНАЦИЯ
Первая часть
АПОРЕТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ЭМАНАЦИИ
1. Первая апория: эманирует ли объединенное в самом себе или за пределы самого себя?
90. После таких предварительных определений давайте примемся за рассуждение о выходе за свои пределы, поставив в своем исследовании тот вопрос, выходит ли объединенное за свои пределы вообще (в самом себе или из самого себя), поскольку мы, похоже, ведем речь о высшем, промежуточном и низшем в нем: об одном — как о подобии сущности, о другом — как о подобии жизни, и о третьем — как о подобии ума, или такие имена используются в переносном смысле — по аналогии с низшим. В любом случае можно было бы приити в недоумение, испытывая справедливые сомнения.
1.1. Внутренняя эманация
В самом деле, если объединенное объединено в том смысле, что непосредственно следует за единым и соседствует с ним, поскольку в нем еще не возникло разграничения единого и сущего, какая изощренная фантазия предположит допустимость какого бы то ни было другого деления? Ведь первое разделение среди всех — это, вероятно, то, которое касается единого и сущего, коль скоро первым среди объединений оказывается именно их сращение в единство. Действительно, все остальное разделяется лишь вслед за этим: либо в качестве единого — и к таким вещам относится, например, единичное число, либо как сущее — и таково сущностное1. Следовательно, для того чтобы числа, как и их монады, различались между собой, необходимо появиться первой инаковости двух монад; а поскольку впереди двух монад2 идет одна, которая скорее всего даже и не монада, так как подлинная монада уже соотнесена с собственным для нее числом, а единая природа, которая, пожалуй, некоторым образом будет объединенной и вообще нерасторжимой,— то какое же в случае такой монады может быть разделение на первое, промежуточное и последнее? Ведь предположение о раздельности первого, нерасторжимого и объединенного подобно допущению о присутствии темноты в свете3, движущегося — в том неподвижном, которое всего лишь неподвижно, и временного — в вечности.
Далее, если бы разделенное следовало за объединенным, а разделяющееся происходило бы от нерасторжимого и существовало после него, то в этом объединенном ни того, ни другого из возникающего от него не существовало бы, а первое, промежуточное и последнее появлялись бы лишь в окончательной раздельности или в ходе самого разделения; следовательно, всего этого, по справедливости, в обсуждаемом случае нет. Я допускаю, чтобы речь, как у Парменида, шла о том, что в ряду всего остального в соответствующем порядке в пределах разделяющейся природы появляются начало, середина и конец4, и этой природе предшествует ипостась целого и частей, при том, что число порождается тем, что стоит превыше даже ее5. Если же там, в объединенном, еще нет числа, то нет и триады; а если нет триады, то нет и трех названных вещей — первого, промежуточного и последнего.
Однако ведь боги и теологи воспели для нас умопостигаемую триаду и выход божественных начал за пределы единого начала появившихся всеобщих вещей. Кроме того, само рассуждение требует, чтобы в этом случае в каком-то смысле имел место выход за свои пределы, хотя бы более всего объединенный. В самом деле, если эта природа в каком-то смысле существует после единого, то уже по этой причине она является объединенной. Но коль скоро ей случилось идти вслед за многим, она должна некоторым образом становиться множественной. Притом если единое сдерживает выход за свои пределы, то множество его пробуждает и вершит. Если же речь идет о том, что единое сущее предшествует и сущности, и единому точно так же, как нечто идет впереди любой жизни _и единичной, и сущностной, и равным образом прежде любого ума имеется совокупный ум, то, конечно же, существует и объединенный ум, и объединенная жизнь, подобно тому как есть объединенная сущность. А где будет располагаться объединенное? Скорее всего, во всеобщем объединенном устроении. Следовательно, такое устроение предстает в виде триады. Действительно, от него возникают и сущность, и жизнь, и ум, при том, что соответствующее множество помещается вовне, и в самом данном устроении как целом каких-либо различий, разумеется, не предполагается. Ведь внешнему множеству по природе свойственно рождаться в соответствии с внутренним — в согласии с ним либо как с причиной, либо как с наличным бытием и при этом или как разделенному, или как объединенному. Ибо пусть внутреннее множество будет и объединенным — все равно оно аналогично разделенному. В самом деле, даже если бы кто-нибудь говорил, что многое возникает из единого, все равно в едином оно не присутствует, и тем не менее необходимо иметь в виду, что, если позволено так выразиться, многое есть внутреннее множество единого. Если бы последнего не было, а первое имелось, значит, легко можно было бы согласиться с тем, что между единым и множеством, определенным в некотором отношении, должно располагаться объединенное, так же как и еще не расторгнутое множество. Вот какие сомнения можно было бы высказать в каждом случае по поводу внутреннего множества в умопостигаемом.
1.2. Внешняя эманация
Сходное недоумение могло бы возникнуть и в отношении внешнего множества. Действительно, появляющееся на свет множество либо однородно с тем, что его порождает, как в случае, когда от одного объединенного появляется много объединенных, например от одного ума — много умов, а от одной души — много душ, или неоднородно, например когда от ума возникает душа, от жизни — ум или от сущности — жизнь; стало быть, при этом сущность, жизнь и ум появляются от объединенного. Однако в последнем случае возникает отнюдь не объединенное, природа которого не обладает способностью к выходу за свои пределы, и таковая способность присуща лишь тому иному, которое происходит от него. Ведь многое, со своей стороны, появляется от единого, а изреченное — от неизреченного, и при этом природа единого, разумеется, не выходит за свои пределы, как и природа неизреченного не становится изреченной. А если бы имел место первый случай, то каково бы было разделение объединенной природы? В самом деле, это подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал, что многое появляется на свет от единого как однородное, ибо точно так же можно было бы говорить и о возникновении разделенного от объединенного. А с какой стати оно могло бы появиться как неоднородное? Ведь и в случае сохранения одного и того же вида, так сказать, одна и та же цель будет у ипостаси и для первых, и для промежуточных, и для последних вещей, ибо самое правильное — это сказать, что выхода за свои пределы всего лишь в связи с убылью одного и того же своеобразия не происходит, если в дополнение к нему не возникает также какого-то различия, делающего возникающее иным по своему виду, поскольку, например, благо не может уменьшиться (по крайней мере, значительно), оставшись при этом одним и тем же и неизменным, хотя при этом отделение от самого себя и невозможно. Разве в этом случае не будут присутствовать какие-либо присоединяющиеся различие и инаковость?6 Действительно, даже по отношению к атомам, отличающимся лишь по своему числу, нелегко допустить выход за свои пределы, относящийся к ним и не связанный с видообразующим различием, как невозможно это и в применении к общему и особенному7. Потому всякая звезда и всякое живое существо есть общий вид и отличаются они друг от друга именно по своему виду. Если же выход за свои пределы происходит так, что возникающие вещи обладают одновременно и чем-то общим и чем-то особенным, как, например, человек, конь и соответствующее каждому живое существо, то почему же от живого существа, пребывающего неразличенным, появляется различное и почему то, что по своей природе неразличимо, расчленяется на множество живых существ и при этом именно в однородном выходе за свои пределы?
Еще больше затруднений связано с рассуждением об объединенном. В самом деле, соответствующая идиома отрицает любое разделение — как однородное, так и разнородное, и, стало быть, в результате отвергается и разделение так называемого внутреннего множества. Действительно, ум, поскольку он сам является видом, пожалуй, в состоянии разделиться на множество видов, так же как целое — на множество частей, а смешанное — на множество стихий. А каким образом в смысле выхода за свои пределы в самом себе могло бы быть разделено объединенное? Ведь это невозможно, например, при допущении неподобия,— ибо откуда в подобной, тождественной и, говоря еще точнее, объединенной природе появится эйдетическое, представляющее собой результат инаковости? Каким образом в ней возникает изменчивость? Разумеется, это невозможно и в связи с подобием, так как объединенное не желает быть ничем иным, кроме как тем, что называется всего лишь объединенным; следовательно, в той мере, в какой оно рождается, оно не могло бы разделиться, и, значит, оно не претерпевает разделения и в связи с подобием. И если бы внутреннее множество возникало как нечто совокупное, так же как от объединенной сущности появляется объединенная жизнь, а от нее — объединенный ум, то одновременно имели бы место та несообразность, которая относится к единовидному выходу за свои пределы как таковому, и та, которая соответствует неединовидному.
2. Вторая апория: единовидная и неединовидная эманация
Вообще же, сейчас, пожалуй, необходимо исследовать тот вопрос, является ли, как говорят философы, выход за свои пределы двояким: единовидным8 — когда, например, Афина появляется от Афины, и неединовидным — когда Афина рождается от Зевса9, и существует ли его единая природа, поскольку всякий выход за свои пределы имеет место как сочетание этих двух родов. В самом деле, особенное, пожалуй, не могло бы ни появиться, ни образоваться без чего-то общего, а общее не могло бы возникнуть как неразличимое без особенного. Ибо Афина происходит от Афины: вторая — от первой, частная — от общей и, если угодно, небесная — от сверхнебесной10. И не только это делает ее другой по своему виду, но и некое своеобразие «афинности», в соответствии с которым всякая Афина, при всей своей особенной природе, есть первая Афина. Далее, каждая из человеческих душ по своему виду отличается от любой иной. Стало быть, многие Афины тем более будут различаться между собой по своему виду, так как всякий бог по своей собственной природе — это высшее состояние. Значит, она представляется, так сказать, единовидной и одновременно неединовидной. Однако Афина происходит еще и от Зевса: как бог — от бога, как ум — от ума, и как демиургическое — от демиургического, и, если угодно, как дарующее качество умности — от дарующего качество умности. Таким образом, она, будучи единовидной, кажется неединовидной. Итак, правильнее всего утверждать, что всякий выход за свои пределы в каждом отдельном случае происходит как совокупный, и при этом разве что только кажется, будто в одном случае властвует подобие, а в другом — неподобие.
3. Третья апория: эманация оказывается одновременно и единовидной, и неединовидной
Однако ведь необходимо исследовать сам тот вопрос, почему один его род является единовидным, а другой — неединовидным, будь то по Сдельности, будь то в совокупности11. Ибо вернее всего утверждение, что всяческие выходы за свои пределы будут либо единовидными, либо неединовидными, что имеет место, например, в том случае, о котором я говорю: Зевс и Афина происходят, как мы утверждаем, от Зевса12, и как один и другая, так и множество их не могло бы родиться от него, единого, если бы он один не был бы всеми ими. Ведь общее всегда вбирает в себя частное, подобно тому как живое существо охватывает многие живые существа: человека, коня и быка, поскольку в качестве них и имеются как живое существо вообще, так и появившиеся отдельно друг от друга многие его виды. Если же Зевс появляется от Зевса как подобный ему по своему облику, то его возникновение происходит не так, как появление всего остального. И если бы кто-нибудь принимал во внимание лишь имена, то, пожалуй, пришел бы в замешательство, видя два противоположных рода выхода за свои пределы. А вот если бы он учел то, что частные — второй и третий — Зевсы при своем появлении по виду уже не те же самые, что первый (ибо один будет всеми появившимися на свет, а другие — какими-то из них13), то он узрел бы полный выход за свои пределы, являющийся разделением всеединого, то есть наличного бытия всеобщего Зевса. Таким образом, каждый Зевс является частью последнего и соименен ему: ни один не таков как целый в соотнесенности с целым, но всякий таков как часть, в качестве которой он появляется на свет. Если же всеобщий производит их на свет, а они возникают в согласии с целым и их облик отнюдь не один и тот же, как не тождествен всеобщий Зевс и частные [Зевсы] <боги> (второй Зевс и Афина), то вновь ясно, что все они рождаются как неодинаковые и иные по своему виду тому, также иному им. Общность же Зевса распространяется лишь на имя14.
4. Четвертая апория: три случая невозможности эманации
И даже если есть какое-то различие в соответствующих выходах за свои пределы, то какова его причина? Почему выход за пределы одного и того же отчасти является единовидным, а отчасти — неединовидным? По какому жребию происходит то или иное рождение? Не имеет ли их распределение отношения к тому, что единовидный выход за свои пределы совершается в согласии с разделением собственно-наличного бытия, а неединовидный — в соответствии с заранее установленной причиной отчуждения? Однако, во-первых, эта причина есть наличное бытие объемлющей природы, как, например, причина Афины в Зевсе есть некая — так случилось — весьма важная его принадлежность, или же, говоря понятнее и правильнее, она сама обладает общей сущностью с Зевсом и без нее того не могло бы быгь15; таким образом, неединовидныи выход за свои пределы совершается как разделение наличного бытия. Во-вторых, такое разделение наличного бытия происходит в Зевсе в то время, когда от него возникают более частные вещи, как, например, подобная ему и происходящая от него так называемая Зевсова последовательность, и, конечно же, последняя рождается в нем или от него не в наличном бытии, а в качестве причины,— когда она устремлена к возникающему, и в наличном бытии — когда к порождающему.
Действительно, стоит обратить внимание на то, что самое правильна — вести речь об одном и том же как о наличном бытии одного и о причине другого и что нет нужды в удвоении природы каждой вещи в качестве так называемого ее наличного бытия и предвосхищения причины последующего; то же самое мы скажем и о сопричастности. В самом деле, речь о ней заходит, когда живое существо в человеке представляется чем-то иным самому человеку, а когда говорится о том, что образует человека, тогда имеется в виду его наличное бытие.
91. [Первый случай.] На еще более высоком уровне можно было бы, пожалуй, естественным образом исследовать тот вопрос, как из единого возникает многое. Почему от него не появляется только единое? Почему многое не происходит от многого? Как мы сейчас утверждаем, множество богов возникает от Зевса16. Однако оно скорее всего рождается от того многого, которое уже содержится в нем,— либо в наличном бытии, либо в качестве причины, либо, если угодно, в смысле сопричастности. Таким образом, многие происходят от многих. А что могло бы появиться от единого как целое от целого? Ведь возникающее всегда оказывается более частным, нежели то, что его порождает. Вероятнее всего, в случае так называемого единовидного рождения это будет целостная последовательность, взятая в совокупности, поскольку она возникла от единого целого. Что же касается неединовидного, то это всеобщий хор порожденного, поскольку как единый и весь он происходит от единого целого.
[Второй случай.] Пожалуй, можно было бы сказать и о том, что всеобщий демиург возник от всеобщего же Крона, словно единый и всеобщий космос — от единого и всеобщего космоса: демиургиче-скии — от титанического17. Так вот, равен ли по своему положению Зевс Крону, как и вечно объемлемый космос — объемлющему? Да ведь Даже в подлунном мире объемлющее превосходит объемлемое и аналогичное положение дел будет иметь место и среди бестелесного18: Кронов космос будет стоять выше Зевсова, Уранов — выше Кронова, выше его — Ночной, а превыше последнего будет находиться простой и единый космос, обретший упорядоченность как единый прежде перечисленных19. Следовательно, в этом случае нечто целое происходит вовсе не от целого, поскольку Крон объемлет не только демиурга, но и то, что ему подвластно; таким образом, подобный выход за свои пределы относится к части и, значит, всякая производящая причина вычленяет его из имеющихся в ней многих. Потому мы во всех случаях будем вынуждены предпосылать внешнему множеству внутреннее. Итак, коль скоро все происходит от единого, а то единое, которое мы называем простым, будет заключать в себе множество, так как иначе от него не может появиться многое, значит, рассуждение уйдет в бесконечность20.
[Третий случай] Далее, первая и последняя апории не относятся к разным их видам. В самом деле, выход за свои пределы берет свое начало в сущем — и тогда разве могло бы возникнуть то, что уже было и прежде? — либо он начинается с не-сущего — однако какое сущее могло бы появиться от никоим образом не сущего? Действительно, оно — отнюдь не материя, так что и от нее как от бытия в возможности не могло бы появиться бытие в действительности. Впрочем, от бытия в возможности никакого бытия в действительности родиться вообще не может, ибо последнее лучше первого21, рожденное же всегда хуже своего прародителя. Итак, ничто, пожалуй, не могло бы произойти ни от сущего, которое уже есть, ни от не-сущего22, причем ни в возможности, ни в действительности, как, по нашему мнению, появляется жизнь от сущности, ум от жизни, душа от ума, а всякий телесный эйдос — от души. Так будет ли последующее присутствовать в предшествующем? Скорее всего, в действительности — нет. В одном случае выход за свои пределы окажется невозможным, а в другом — помимо этого, еще и излишним.
А если бы кто-нибудь повел речь о возникновении в согласии с причиной, то в ответ на это мы зададим вот какой вопрос: что означает выражение «в согласии с причиной» — не то ли, что появляющееся на свет в порождающем его оказывается тождественным, например, эйдосу или числу? Однако последнее невозможно, поскольку, как мы говорим, обусловленное причиной — это одно, а сама причина — другое. Невозможна и его тождественность эйдосу, ибо единый эйдос повсюду является первым, поскольку, скажем, здешний человек не тождествен по своему виду тамошнему, так как один эйдос — это изображение, а другой — его парадигма, и один заключен в материи, а другой — в уме. Поэтому тот эйдос, который находится в душе, оказывается промежуточным и иным каждому из занимающих крайние положения. Но если бы не было тождественности ни эйдосу, ни числу, то в порождающем не существовало бы и какой-либо иной по сравнению с ним самим причины порождаемого. Далее, почему причина иного оказывается ему иной? В самом деле, это подобно тому, как не-сущее является иным сущему; однако в данном случае рождающее также выступает иным рождаемому. Так почему же начало, порождающее иное, оказывается ему иным — либо само по себе, либо в качестве чего-то иного в себе?
5. Пятая апория: эманация эйдоса в материю
К неправильным выводам приходит разум и в отношении того, что появляется в материи от ума. Действительно, необходимо, чтобы ничто изначально не произрастало в материи, но чтобы все появлялось оттуда. Следовательно, в материи первоначально нет иконичности23, как нет в ней ни способности к порождению, ни материальности, ни пространственности, ни трехмерности, так как все это — эйдосы, отличающиеся от противоположных им. Стало быть, они также не появляются и оттуда, поскольку там изначально не существуют: изначально сущее в уме не нуждается в нисхождении в материю, поскольку вечно и не рождено.
6. Шестая апория: разделенное не может эманировать вместе с объединенным
Помимо этого, мы говорим, что разделенное произошло от объединенного и что оба они возникают благодаря единству и раздельности, причем последние должны появляться вместе. При этом они вообще-то противостоят друг другу в едином выходе за свои пределы и отделенное находится в отделенном. Объединенное пребывает там, где есть единство, а там, где присутствует раздельность, располагается разделенное, обладающее свойством раздельности. Следовательно, оба они — и объединенное, и разделенное — находятся в разделенном, и, стало быть, объединенное, от которого происходит разделенное, ему не предшествует. Если же единство пребывает в объединенном, то там, где оно находится, существует и раздельность, а значит, в объединенном будет и разделенное.
7. Седьмая апория: объединенное не может быть причиной разделения
Далее, заслуживает исследования и то, что же именно создало разделенное взамен объединенного и вслед за ним. В самом деле, разве могло бы объединенное быть причиной разделения? Ведь это было бы похоже на то, когда некто сводит порождающее противоположное к противоположному ему. Если же к разделению приводит какое-либо ослабление, то что сотворило это самое ослабление? Ибо не создало же его превосходство.
91а. Точно таков же и тот вид апории, которая зачастую высказывается в связи с единым и многим: каким образом многое рождается из единого?24 Действительно, такое суждение будет походить на утверждение о возникновении холодного из теплого25.
8. Разрешение седьмой апории
Не следует ли в ответ <на последнюю апорию> воспроизвести следующее мнение философов: выходящее за пределы менее совершенно, нежели производящее его на свет26, и, стало быть, в той мере, в какой возникающее от единого выходит за его пределы, оно не является единым; следовательно, разве в силу необходимости оно не оказывается многим?
Однако, во-первых, менее совершенное тогда в качестве определенного предмета не будет отличаться ни по своему виду, ни по своей природе <от более совершенного>. В самом деле, существует и более совершенное прекрасное, и таковое в меньшей степени, и тем не менее оба они есть прекрасное, и, стало быть, в нашем случае то и другое — единое, даже если одно — производящее на свет, а другое — появляющееся. По крайней мере, для него существует и собственный выход за свои пределы, поскольку единое превращается именно в единое27.Во-вторых, многое будет появляться на свет в силу случайности, коль скоро оно рождается не именно как многое, а оказывается таковым лишь в силу своего рождения как такового. В-третьих, при таком ответе будет сохраняться сам предмет апории. Действительно, почему одна противоположность рождается от другой?
Стало быть, самое лучшее — это вести речь о том, что единое есть не только единое, на что указывает само его имя: как мы много раз говорили, оно есть все как единая простота, предшествующая всему, и потому в качестве этой воспроизводящей простоты оно и оказывается причиной всего. Значит, единое выступает как таковое не в том смысле, что оно противоположно многому (ибо оно превыше любого противопоставления), а поскольку является началом всего и всем. Именно как начало всего оно и производит на свет то, что следует за ним: все — как единственное, многое — как единое, существующие вещи — как сверхсущностное, будучи в том числе и сущим. Однако каково в этом случае его отличие от демиургического ума, парадигматически вобравшего в себя все и производящего это самое все как иконическое? Пожалуй, единое начало целостных предметов, будучи всем тем, что происходит от него, порождает из себя все многое в своей простоте, нерасторжимости и в согласии со своей немножественной природой.
Проблема же состояла в том, каким образом из единого возникает многое. При описанном подходе можно считать, что все появилось от начала всего, потому что начало было всем, предшествующим всему.
Коль скоро появившееся на свет единое состоит из всего, а само все существует [отнюдь не] в виде множества всего, необходимо отчетливо понимать, что начало двойственно и одно пребывает в качестве воспеваемого простого единого, а другое — как все, каковым, как мы утверждаем, оно оказывается потому, что предшествует всему. Да и о нем как о многом мы уже давно ведем речь, поскольку это многое, принадлежащее единому,— как бы его беспредельная сила, в согласии или наряду с которой оно является всем и порождает все. Потому-то это самое начало боги и нарекли отеческой силой. И коль скоро первые начала по природе согласуются между собой — причем именно таким образом, что второе находится в первом и возникло от него в нем самом,— по этой самой причине каждая вещь из появившихся на свет по отдельности и все они вместе есть одновременно и единое и многое, причем последнее происходит от единого в виде того, в чем пребывает возникшее, и всегда является вторым после него.
А не получается ли так, что и в материи вслед за единым присутствует соответствующее ей многое, и мы будем говорить, что низшее среди всего есть не единое, а многое, и в этом случае многое окажется предшествующим всему и тем самым единым?28 Напротив, многое пребывает в едином в каждом случае именно так, что объемлется им как кругом, и потому единое всегда будет и первым, и последним. Следовательно, давайте сделаем именно такую добавку к данному рассуждению.
Многое изначально возникает от единого, потому что последнее называется так в качестве простого единого, однако оно есть и многое, и все, и даже больше, чем все, поскольку оно — единое, а многое и все — это второе начало, оказывающееся течением29 единого и его беспредельностью, или же всеобщим порождающим началом. Потому исследование того, каким образом единое производит на свет многое, есть дело тех, кто не ведает простоты единого30. В самом деле, наличное бытие, сила и энергия в нем еще не противостоят друг другу — напротив, они пребывают там всего лишь как единое. Второе начало первым вне единого являет детородную способность и качество беспредельности во множестве, а также силу неповиновения31. Потому-то оно и удостаивается вторых имен, и нет ничего противоестественного в том, что от него-то и возникает многое, тем более что оно и есть само бытие многим и многое, в простоте предшествующее всему. То же самое мы должны сказать и по поводу объединенного. Действительно, оно является одновременно и множественным, так что, будучи в качестве объединенного всем, оно, по справедливости, порождает все как объединенное начало всего.
Однако каким образом от этого начала обособляется то, что происходит от него, в то время как оно само порождается? А как от единого отделяется многое? Да ведь это и было изначальным предметом апории. Скорее всего, подобное происходит потому, что начало, будучи всем, оказывается и выходом за свои пределы, и ухудшением, и разделением, ибо каждая из этих вещей является чем-то среди всего. Стало быть, оно производит на свет, скажем, сущность, жизнь и ум и точно так же одновременно с ними порождает и ухудшение, и разделение, и выход за свои пределы, и вообще все то, что имеет отношение к инаковости. Ведь и последняя вычленяется наряду со всем другим, и, значит, за разделяющимися вещами следует разделение, за появляющимися на свет — выход за свои пределы, а за ухудшающимися — ухудшение. Следовательно, возникновение в раздельности происходит не случайным образом — напротив, порождающая причина одновременно и разделяет, и созидает само разделение.
9. Разрешение шестой апории
92. В ответ на вторую от конца апорию мы скажем, что, с одной стороны, единство оказывается вещью одного порядка с раздельностью и вместе они соответственно занимают равное положение. С другой же — единство выступает как единая слаженность этой самой антитезы в целом, каковой предстает диада. Однако существует и более важное единство, нежели даже это, а именно то, которое соединяет между собой все подобные вещи, выступающие в качестве монад, и которое само является монадой всех монад и самого целого и однородного числа, а также единым видом, в котором сочетаются все виды. Прежде него необходимо мыслить единство простого целого, в котором содержатся простые части, а до него, конечно же, единство состоящего из стихий, оказывающееся слиянием всех соответствующих стихий, а также выступающее как объединенная сущность, поскольку именно она сопутствует подобному единству; это единичная сущность. Среди всего перечисленного мы указали на единое и наиважнейшее единство, соответствующее единому сущему и предшествующее обоим названным, каковое в первую очередь мы и воспеваем как объединенное. Так вот, все пребывает в нем, так что в нем и раздельность, как и все остальное, существует в качестве единства и уже от него происходит и благодаря ему возникает разделенное.
Так по какой же причине, иной по сравнению с единством, возникло объединенное, подобно тому как разделенное образовалось вследствие раздельности, а также каким образом появились они оба вместе взятые? Скорее всего вследствие преобладания: вверху властвует единство, а внизу — раздельность. Потому вверху существует и раздельность, так что высшее оказывается разделенным, хотя и в наименьшей степени. Однако ведь имеются места, где в равной мере властвует и то, и другое, как, например, там, где есть и тождественность, и инаковость, а также и покой, и движение, ибо в этом случае они появляются вместе32. Следовательно, для этих самых единства и раздельности существует и иное обозначение, при том, что они некоторым образом противостоят друг другу, конечно же не занимая равного положения, но выступая как причина и причинно обусловленное. Впрочем, лучше сказать так: мы мыслим определенное и даем наименование в числе прочего и единству и раздельности и тем самым как-то проясняем для себя и неопределенное. Итак, мы вовсе не создаем вид объединенного на основании единства, так же как и полной раздельности, соответствующей делению на части. Ведь ум — это одновременно и объединенное, и разделенное, и в том же отношении, какое одна его часть образует с другой, находится сущность как объединенное с целостным умом как разделенным или, вообще говоря, как предшествующее единому и сущему объединенное — с составным единым и сущим. Помимо этого, мы пользуемся именами, принадлежащими определенному, либо самими по себе, либо в качестве связки, желая объяснить хоть что-то, касающееся совершенно неопределенных предметов, ни мысленным образом, ни членораздельным именем которых по причине совершенной расчлененности нашего мышления мы не обладаем. В самом деле, если бы мы намеревались уловить хоть какой-то след этой самой соединенной природы, нам необходимо было бы собрать все наши умозрительные представления вместе, в единое сверхумозрение (μετάνόημα), единую вершину всех умственных образов33.
10. Разрешение пятой апории
93. Разумеется, в ответ на апории третьего рода необходимо определить соотношение единого с изображениями и их образцами, поскольку разум гласит, что рожденное должно изначально существовать в нерожденном, и это приводит к требованию того, чтобы все виды и собственные признаки брали свое начало в уме и в вечных предметах, затем достигали души и промежуточной сущности, а в завершение — и материи. В самом деле, материальные вещи не являются ни самостоятельными, ни первичными, ни подлинными в смысле эйдетического наличного бытия, поскольку они смешаны с не-сущим и безвидным; впрочем они не будут и первыми смешанными материальными вещами — они всего лишь не первые эйдосы. Таким образом, то, что обладает объемом и протяженностью, изначально в качестве эйдо-сов существует в высшем,— и эти эйдосы первичны, а в виде рожденных и материальных вещей, которые мы рассматриваем первыми и единственными как некие вот такие, как эйдосы, о которых говорится, что они существуют, подобное существующее оказывается последними эйдосами среди всех34. Так кто бы стал требовать, чтобы последние эйдосы были первыми? Однако в качестве эйдосов как таковых в высшем они и есть первые. Противоположности — тождественность и инаковость, движение и покой, единое и многое — имеют там равную силу, и то же самое относится ко всем остальным антитезам, однако в одном случае все пребывает нерожденным и вечным, то есть, другими словами, нерасчлененным, а в другом — рожденным и подвластным времени, то есть расчлененным.
При этом я не говорю о делимом и о неделимом как о каких-то эйдосах, ибо в этом случае каждое из них пребывало бы, со своей стороны, в свойственном для него состоянии. Напротив, мы даем название целому иначе, на основании какой-то части, не ведая при этом имени, обозначающего общность. В самом деле, отнюдь не получается так, что, называя Все космосом, мы тем самым даем ему название на основании общей природы, вобравшей в себя все вещи,— напротив, оно связано лишь с собственным признаком упорядоченности (τό κεκοσμήσθαι). Действительно, и хоровод (ό χορός) получил свое название от глагола «плясать» (χορεύει ν), и войско (ό στρατός) — от глагола «воевать» (στρατεύεσθαι), и человек (ό άνθρωπος) — поскольку он сопоставляет то, что он увидел (άναθρεΐν ά όπωπεν)33, и конь (ό ίππος) — поскольку он передвигается при помощи ног (ϊεσθαι τοϊς ποσίν), ибо каждое единое сущее и многое получило свое название на основании единства многих сущих в нем36. Так не является ли целое общим именем, как и соответствующим ему предметом? Похоже, все есть целое, так же как и части, предшествующие частям, но имя свое оно получило на основании того, что их соединяет. Ведь целое (όλον) — это нечто, как бы собранное в кучу (άλες), причем в достаточном количестве (άλις), и то, что видимо как собранное в кучу, названо целым37. Стало быть, в таком случае все и целое делимо как материальное, а неделимо как нерожденное, причем и то, и другое соответствует не эйдосу, а названному способу его наглядного представления. Потому все эйдосы пребывают и в уме, и в материи, как и само делимое и неделимое, также являющиеся эйдосами, но в одном случае они таковы в наличном бытии, а в другом — в сопричастности, и в одном случае они оказываются первыми, а в другом — последними, хотя всякий раз они выступают именно как эйдосы, и я говорю и о первом и о последнем — и о наличном бытии, и о сопричастности.
Стало быть, не получается ли так, что, в то время как одни эйдосы являются образцами, а другие — их изображениями, все они оказываются именно эйдосами, причем в каждом названном случае?38 А почему бы этому и не быть, коль скоро изображение есть подобие, а подобие — это результат уподобления, последнее же всегда имеет место и образец — это его архетип; там одно уподобляется другому, и здесь имеет место то же самое, ибо Сократ является парадигмой для своего изображения39. Итак, собственные признаки есть в каждом случае. Если же мы говорим об изображении, которое является всего лишь таковым, каков материальный эйдос, то иконического в уме в этом случае не будет. И если образец — это тот эйдос, который не рожден и вечен, так же как и тот, который выступает как первое наличное бытие, то и тогда в нем будет отсутствовать парадигматическая природа. Значит, в этом случае и обладающее объемом, как тамошний эйдос, является неделимым объемным; здесь же оно таково, как эйдос, но при этом делимый, и является объемным, как делимое. Таким образом, собственный признак в обоих случаях общий, а первая и последняя ипостаси того и другого особенные: это ипостаси рожденного и нерожденного, материального и нематериального, а также существующего во времени и вечного. Притом все перечисленное выступает не как собственные признаки, а как порожденное и породившее, и как наличное бытие и сопричастность, и так, как можно было бы определить становление и сущность, причем не в качестве общих собственных признаков, а как частные ипостаси, существующие в высшем, а возникающие в низшем. Вот какие я Даю определения.
Что же касается иного, то я буду трактовать его как то же самое и в применении ко всякому возникающему и порождающему, как, например, в том случае, когда совокупный космос, движимый иным, появляется от самодвижного, а тот, в свой черед, от неподвижного. Все то, что в первом пребывает в неподвижности, во втором оказывается самодвижным, а в третьем — движимым иным, так что сущее возникает от сущего и от бытия в действительности. При этом не будет иметь места никакое неразумие. Ведь порождающее и возникающее окажутся не просто тождественными и одинаковыми, но в чем-то таковыми, а в чем-то — нет. Ибо прекрасное, движимое иным, возникает от самодвижного, а последнее — от неподвижного. Следовательно, ты мог бы сказать, что сущее появляется от сущего, а не-сущее — от не-сущего, так как, с одной стороны, оно выступает как тождественное ему, а с другой — как нетождественное, и подобное относится именно к выходу за свои пределы, представляющемуся единовидным, поскольку, например, прекрасное происходит от прекрасного. Если же прекрасное возникает от блага или движимое иным — от самодвижного, то и оно, в свою очередь, появляется от неподвижного, в одном — в качестве причины — пребывающего им, а в другом — в наличном бытии — нет. Ведь по природе одно — это причина, а другое — обусловленное причиной, и одно предвосхищено в другом — как то, на что некоторым образом мог бы указать появившийся на свет разум. Точно так же все есть и в объединенном, и в разделенном, и одно возникает от другого, с одной стороны, как сущее от сущего и одновременно как не-сущее, а с другой — как то и другое и как изменившееся: если угодно, сущее появляется на свет от не-сущего, а то, в свою очередь, от сущего. В самом деле, все пребывает во всем40 в действительности, а, с другой стороны, в действительности нет ничего и нигде: в одном отношении нет ничего, а в другом — есть все. И при этом не возникает апории, связанной с появлением бытия в действительности от того, чего нет в возможности, или же сущего от не-сущего. Ибо в высшем нет ничего в возможности, как нет и не-сущего — в том смысле, который мы имеем в виду, когда говорим об апории,— напротив, поскольку сам вид ипостаси оказывается иным, речь заходит о не-сущем, а поскольку по природе одному положено рождаться от другого,— о бытии в возможности41.
11. Разрешение четвертой апории
[1] Далее, тем, кто переходит вслед за сказанным к четвертой от конца апории, она кажется легкоразрешимой при использовании того же самого метода. В самом деле, нет ничего удивительного в том, что многое появляется от единого, если единое порождает все, или многое42, в согласии либо со своей всеплодоносящей простотой, либо с каким-то образом заключенным в нем множеством. Ведь все у нас будет единым по отношению к тому, что есть в возможности, и при этом будет существовать в действительности. Впрочем, оно не будет определенным, каков вот этот или, вообще, какой-либо космос, так же как не является оно и объединенным как таковым,— напротив, все есть только единое как единое и как объединенное, однако в своем единстве нерасторжимое; разделенное же — это все, но скорее всего в некой определенности. Поскольку положение дел именно таково, нет никакой разницы между утверждениями, что многое происходит от вот такого и пребывающего таким единого и что многое возникает от многого, установившегося в качестве единого или в виде объединенного, или же расчлененного как разделяющегося и разделенного. Ты мог бы, пожалуй, выразиться и яснее, если бы повел речь о том, что второе начало появляется от первого подобно тому, как от единого происходит единое многое; от этого начала, в свой черед, рождается то, что одновременно оказывается объединенным и множественным, а от него — постепенно приобретающая дополнительную раздельность во множестве ипостась многого. Таким образом, нет ничего удивительного в том, чтобы и от неделимого единого произошло множественное единое целое, подобно тому как от единой причины возникает все вместе, и как появляется единый всевеликий космос, и как от многого рождается многое (от того, которое существует в качестве единого,— то, которое не соответствует единому), поскольку можно было бы увидеть одно и то же в каком-то отношении в качестве единого, а в каком-то — как многое и высказаться о нем соответственно.
Итак, либо от единого возникает единое, словно Дионис от Зевса43, либо от единого происходит многое, подобно тому как от Зевса родилось множество богов, либо единое появляется от многого — например, в тех случаях, когда душа, как говорят, образуется из всего ей предшествующего44 и когда нечто всегда рождается от всех важнейших причин, либо многое возникает от многого — например, как мы говорим, чувственно воспринимаемые вещи от умопостигаемых. Впрочем, оба они — и единое и многое — повсеместны, даже если в одном случае множество существует как единое, а в другом — единое как множество; разумеется, единое и множество также существуют и сами по себе. Следовательно, мы не уйдем в бесконечность, вечно отыскивая немножественное единое, предшествующее единому многому. Ведь причиной всего многого оказывается само простое единое, так как единое сущее — это именно все, поскольку оно предшествует всему, а не есть что-то одно из всего, так же как и некое единое, происходящее от всего; оно — подлинное единое, причем в том же самом смысле, в каком все вместе выступает в качестве самого единого. Что же касается второго начала, то и оно есть все, однако лишь в собственном бытии многим. В самом деле, само по себе оно будет многим, принадлежащим высшему единому, поскольку всякое множество образуется вокруг единого, будучи многообразной силой, окружающей собственную сущность. Таким образом, опираясь на все как на многое, мы совершаем восхождение к соответствующему началу, а исходя из всего как единого — к единому. Что же такое все в каждом из этих случаев: одно — единое как все вместе, а другое — многое как все во множестве? Правильнее всего утверждать, что от единого происходит именно все, поскольку последнее зависит от него, а также многое, так как <ранее> оно было еще безграничным, неопределенным и не произошедшим от второго начала в законченном виде. Пусть именно это и будет сказано по поводу данной апории.
94. [2] В ответ на следующий заданный выше вопрос, во-первых, мы скажем вот что. Если космос происходит от космоса как целостный от целостного, например демиургический от титанического, или титанический от связующего45, или же умной от умопостигаемого46, то разве не будет предшествующий космос весь превращаться в последующий и ничто высшее не будет пребывать в предшествующем как обособленное? Не иначе как в таком случае подобное пребывающее, разумеется, не будет иметь потомков и окажется совершенно неспособным к выходу за свои пределы. Таким образом, в описываемом случае тот космос не будет превосходить этот благодаря бытию в нем чего-то такого, чего нет здесь. Ибо, напротив, удобнее предположить, что в последующем появляется нечто, по природе в предшествующем еще не выделяющееся. Однако ведь и это неверно, поскольку там располагаются единое и соединенное, которые здесь оказываются разделяющимся или обособляющимся от чего-нибудь. Почему же мы говорим, что все — во всем47, хотя оно и находится то в одном положении, то в другом? Всякий раз, когда мы утверждаем, что низшее больше высшего, мы ведем речь о раздельности, так как и в высшем есть то же самое, но как соединенное. Так почему же мы говорим, что другое в наличном бытии появляется в ином месте? В самом деле, каждая вещь отделяет собственную природу от другого именно там, где она своевременно привносит во все собственную энергию. А не эта ли природа и есть так называемое первое наличное бытие каждой вещи, которое свободно от других собственных признаков? Похоже, что это верно (ибо вовсе не везде все пребывает в одном и том же положении, напротив, в одном месте оно оказывается объединенным, а в другом — разделенным), однако все находится во всеобщем космосе — как в умопостигаемом (ибо, как гласит оракул, он есть все, но умопостигаемым образом48), так и в чувственно воспринимаемом — и ясно, что также и в промежуточных между ними. Итак, почему мы говорим, что высшее есть более общее, нежели следующее за ним, и что одно объемлется, а другое объемлет, коль скоро в одном не заключено никакого превосходства по сравнению с другим, при том, что все существует и там и здесь и все по необходимости равно всему? Потому что это вполне возможно, и даже если существует равенство по количеству и величине, один космос может охватывать другой, а иногда один способен охватить многие, подобно тому как сфера неподвижных звезд содержит в себе все идущие за ней, а Кронов космос объемлет Зевсов, даже если тот равен ему по разнообразию видов, по всеохватности и явленности и как бы по величине своей природы. Далее, необходимо учитывать, что, в то время как высшее всегда устанавливает и порождает все следующее за ним, может случиться и так, что от одного или от другого родится более многочисленное, например когда умопостигаемый космос производит на свет все следующие за ним: умной, сверхкосмический и внутрикосмический (и при этом умной порождает только два космоса, а сверхкосмический — лишь один, чувственно воспринимаемый), или же выделяется много космосов — столько, на сколько можно было бы разделить появляющееся на свет. Следовательно, умопостигаемый космос — наиболее общий, так как он объемлет в себе все, чувственно воспринимаемый, а вернее, подлунный49,— наиболее частный, так как он оказывается последним и содержит в себе лишь свои части; промежуточные же по аналогии объемлют и объемлются. Точно так же и в применении к любой последовательности можно было бы увидеть, что стоящее по порядку выше является более общим, а стоящее ниже — скорее частным.
Во второй черед давайте скажем вот что. Если бы кто-нибудь говорил, будто демиургический космос как целое появился от титанического, то ныне представленные рассуждения относительно космосов соответствовали бы и такому выводу. А если кто-нибудь производит Зевса от Крона, то ведь мы знаем, что, согласно воззрениям как эллинов, так и варваров, Зевс родился от Крона в числе многих других, подобно тому как, в свою очередь, Крон родился от Урана наряду со многими другими, и то же касается рождения Диониса от Зевса50. И если одни разделили между собой целостность общего для них отца, а Другие возникли от него как имеющие один облик с ним в целом (и потому стали преемниками в отеческих царствах), то это никак не умаляет истинности данного рассуждения. Ибо, скажем, разве Зевс, произведя из себя на свет множество частных богов, тем самым не породил в дополнение к этой совершенной раздельности расчлененную целостность, так же как и включенных в нее многих богов? Или разве он, согласно орфическому преданию, не родил в собственном космическом устроении также и титанов?51 Действительно, точно так же и Крон вслед за большим числом старших детей наконец произвел на свет всеобщего Зевса, управляющего иным царством52. Нечто похожее известно и об Уране: всдед за остальными Уранидами последним он породил Крона53. Поэтому необходимо отметить, что появившиеся на свет обладают взаимным превосходством по отношению друг к другу: одни присутствуют в отце и подле него, но при этом являются скорее частными, а другие выходят за пределы отеческого своеобразия и выказывают большее собственное и при этом сами становятся общими и сохраняют аналогию между породившими и теми, кто от них рождается. Таким образом, вторые цари54 как целые аналогичны целым предшествующим, но при этом, конечно же, несопоставимы с ними на равных основаниях. Таков иной путь рассуждений.
Вслед за вышеизложенным давайте скажем по поводу тех же самых подлежащих рассмотрению предметов, что порождающий, например Зевс, производит из себя на свет как одного, так и многих, но в каждом случае в согласии либо с самим собой в целом, либо с чем-то в себе. Совокупный хор Зевсовых богов в соответствии с ним самим выступает как единый, однако в то же время Зевс порождает и множество богов в согласии с содержащимся в нем и как-то определенным многим; при этом каждого из таких богов он производит на свет собственным для него образом, но в соответствии с чем-то определенным в самом себе. Итак, в данном случае от единого появляется единое, потому что это происходит в согласии со включенным в него многим, а в свою очередь хор многих возникает как разделение его собственной целостности и полноты; Диониса же он порождает в качестве целостного объединенного, так что и этому, по справедливости, невозможно было бы удивиться. В самом деле, от единого возникает и целое как целое, и каждая часть как нечто; однако многое появляется от единого, но как от множественного. Хор соответствует целому, а множество отдельностей — содержащемуся в едином множеству отдельностей.
12. Разрешение третьей апории
12.1. Предварительные замечания по поводу данной апории
Почему же один выход за свои пределы оказывается единовидным, а другой — неединовидным? Вероятно, потому, что Зевс в согласии со своим собственным своеобразием производит на свет некую соименную последовательность богов, а в соответствии с предвосхищающей причиной в самом себе — Диониса и остальных богов, носящих иное имя. Так что же? Разве он рождает Диониса не в соответствии с собственной целостностью, а многих богов — не как множество собственных частей? Его наличное бытие — это взятые вместе целое и части; разве их выход за его пределы не оказывается единовидным, коль скоро он связан с его наличным бытием? Но если бы это было так, то появился бы некто, носящий то же имя, однако этого не происходит, так как мно-жество богов становится отнюдь не Зевсом, как не оказывается им и Дионис, выступающий как единый. Что же это за такое наличное бытие, в согласии с которым соименно Зевсу возникает последовательность богов? Разумеется, это не общее, ибо в таком случае оно оказалось бы противоположным тем видам наличного бытия, которые происходят от всех остальных частей; по той же самой причине части и не соответствуют всему вместе. Если же это самое наличное бытие выступает как нечто среди того, что заключено в нем, то почему лишь оно будет соименно целому?
12.2. Расчленение апории
Пожалуй, данная апория может быть разрешена четырьмя способами. В самом деле, если бы возникающее появлялось в качестве общего, то оно было бы иногда соименным производящему его, наподобие семикратно появляющегося всеобщего демиурга у халдеев55, ибо каждый из них воспевается как Дважды Потусторонний56 и при этом объемлет собой все то же самое, что и первый, пусть даже оказывается скорее частным в силу их нисходящего порядка, а иногда — носящим иное имя, подобно Дионису. А если бы это возникающее появлялось в согласии с некой частью, то опять-таки иногда его появление оказалось бы соименным — в случае, скажем, происхождения последовательности Зевсов от всеобщего Зевса, а иногда иноименным — например когда от Зевса рождается Афина.
95. Так вот, самое правильное — утверждать, что раздельность каждого производящего на свет и того, что возникает от него, двойственна: с одной стороны, она идет вглубь и принадлежит к проистекающей от него всеобщей последовательности, основанной на ослаблении, а с другой — простирается вширь и относится к содержащимся в нем видам или не равным друг другу частям. В самом деле, раздельность, идущая вглубь, предвосхищена в нем и является гомеомерной, а потому и соименной57; что же касается иной, то она неоднородна, по каковой причине связанное с ней порождение иноименно. Ибо первый и второй Дважды Потусторонние возникают от всесовершенного в собственной всеобщности, и потому они соименны внутри себя; тот же их исток, который имеет отношение к магии, связан с какой-то из не равных между собой частей58. Точно так же и каждый из так называемых частных истоков, возглавляющий собственную однородную последовательность, существует по причине гомеомерной раздельности, идущей в глубину. И если бы в каком-то из них и содержалась некая негомеомерность, простирающаяся в ширину, как, например, в Гелио-совом истоке — Аполлонов и в нем же — Асклепиев59, то, разумеется, потому, что и их рождение является неединовидным.
12.3. Философское истолкование апории
95а. Однако простирающееся в глубину единовидное рождение, берущее свое начало от простого ума и созидающее целостную и повсеместно распространенную вширь совокупность видов, происходит также тем способом, который рассматривается в философии60. А если ум будет производить на свет душу, природу или тело, то он будет создавать их как нечто иное по своему виду и в согласии с какой-то частью названной совокупности. Таким образом, даже если бы рождение совершалось в согласии с красотой, благом или справедливостью, то и тогда оно было бы неединовидным. Стало быть, прекрасное или справедливое оказываются каким-то определенным рожденным, поскольку это или ум, или душа, и содержатся они либо в чем-то ином названному, либо и в том и в другом. Так почему же душа, ум и взятое само по себе тело, как и каждая вещь, самостоятельны, а красота и справедливость, как и любой род сущего, не таковы? По какому жребию это происходит? И почему материя превратилась во все виды и восприняла их все, а любая другая вещь никоим образом этого не совершила?61
Скорее всего, во-первых, те простейшие виды, стихии или части, которые обладают смыслом, всегда по природе существуя вместе друг с другом, отказываются от собственной обособленной ипостаси, поскольку при своем объединении обладают более совершенной природой, нежели та, которая связана с обособлением в самодостаточной раздельности. Во-вторых, и прекрасное, и покой, как и все, взятое в простоте, выходит за свои пределы в виде всего; так, например, прекрасное присоединилось ко всякому виду и потому принимает участие в любом выходе за пределы. В-третьих, простой ум в согласии с каждым эйдосом из тех, которые содержатся в нем, рождает первый ум, вслед за ним — душу, а после нее — живое существо и материальную природу, получившую свою форму на основании того эйдоса, в согласии с которым она появляется на свет. Можно было бы сказать: прекрасному соответствует любовный ум, справедливому — ум Дике62, благу — ум благого демона63 и, вообще говоря, каждому из видов — собственный для него. В самом деле, самое верное — это то, что глубина в целом разделяется на основании ширины в целом, всегда изменяясь вследствие превосходства каждого определенного вида. Необходимо иметь в виду также и то, что ширина обладает некой собственной для нее глубиной, поскольку в ней просматриваются первое, промежуточное и последнее, например просто роды, и сначала те из них, которые более общи, затем те, которые скорее частные,— и так вплоть до самых частных которые в силу их полного синтеза представляются самодостаточными и установившимися в отношении самих себя, при том, что и они, в свою очередь, также некоторым иным способом простираются вглубь. Действительно, за разумной ипостасью следует душевная, а за ней — телесная; она также неединовидна, потому что вот этот выход за свои пределы есть дело ширины, в то время как последняя при порождении пустых предметов64 разных видов углубляется. Впрочем, об этом скорее всего сказано достаточно.
Пожалуй, проделав столь долгий путь, мы ничего не достигли. В самом деле, мы, похоже, вновь говорим то же самое, что было сказано сначала: что одни вещи появляются на свет в согласии с наличным бытием чего-то как принадлежащие к одному с ним виду, а другие — в соответствии с наперед заданной причиной как относящиеся к иному виду. Так что же это за причина и почему одна природа предвосхищена в другой? И почему наличное бытие одного не является причиной другого? Да ведь здесь-το мы и нащупали важнейшие апории.
12.4. Наличное бытие и предшествующая причина
Давайте в первую очередь скажем, что одно дело — это наличное бытие порождающего, а другое .— причина порождаемого, и в каком-то другом положении находится причина того, что относится к иному виду. В самом деле, если пребывающее среди низшего в возможности связано с наличным бытием, как это ясно показал Аристотельб5, то подобное имеет место, разумеется, потому, что причинность оказывается чем-то иным по сравнению с наличным бытием. Далее, если имеется одно лишь наличное бытие порождающего и оно производит на свет нечто только от самого себя и в согласии с самим собой, то каким же образом оно рождает нечто, принадлежащее к иному виду, при том, что нет ничего иного по сравнению с ним, что было бы привнесено в него? Ведь, рождая благодаря своему бытию, оно созидает порождаемое, передавая ему свою собственную природу66; следовательно, необходимо, чтобы была некая наперед заданная причина и для принадлежащего к иному виду, благодаря которой нечто, будучи ему иным, породит его. Кроме того, если одно порождает другое просто так, без какой-либо причины, предвосхищающей порождаемое, то почему бы от случайного не возникнуть также чему-то случайному, поскольку оно не обладает никаким наличным бытием помимо причины?
96. Так вот, именно это и побудило древних философов считать все то, что появляется, произведенным на свет от того, что изначально существует в качестве причины67.
Однако если бы кто-нибудь утверждал, что причина заранее задана в чем-то, не будучи его наличным бытием, такое суждение оказалось бы весьма рискованным68. В самом деле, прежде всего, откуда родилась эта самая причина? Ведь если она появилась благодаря другой причине, то мы уйдем в бесконечность, а если она родилась от наличного бытия, то почему она оказывается принадлежащей к другому виду как причина того, что относится к этому другому виду? Кроме того, если порождает само бытие,— а бытие каждой вещи есть ее собственное наличное бытие69,— то ясно, что принадлежащее к иному виду рождается от собственного наличного бытия; таким образом, так называемая причина будет некой частью наличного бытия, поскольку и первая из эпихерем70 благорасположена по отношению к противоположной ей. Ведь и бытие в возможности, пребывая в чем-то, является частью его наличного бытия, поскольку его эйдос, как говорят, по своей природе соотносится с другим и существует в возможности; примером этого является статуя из меди71. Действительно, медь от природы такова, что ей легко придать любую форму, и эта легкая обрабатываемость — как бы часть ее природы.
Впрочем, если наличное бытие и причина тождественны, то почему одно рождение является единовидным, а другое — неединовидным? А не получается ли так, что то рождение, которое совершается в согласии с наличным бытием, единовидно, а то, которое происходит в соответствии не просто с наличным бытием, но с таким наличным бытием, которое склонилось к рождению иного,— неединовидно? Действительно, самое правильное — это утверждать, что причина не будет ничем иным, кроме как наличествованием, склонившимся к инаковости и потому дарующим качество иного, в то время как то наличное бытие, которое осталось при самом себе, предоставляет качество тождественности. Однако и единовидное рождение не могло бы иметь места, если бы простое наличествование также не склонялось бы к нему, поскольку порождающее — это, вообще говоря, причина порождаемого. Так каково же отличие именно этой причины, коль скоро всякая причина есть склонение порождающего к порождаемому? Пожалуй, правильнее говорить о том, что наличное бытие двойственно и одно связано с гомеомерной, а другое — с негомеомерной, то есть простирающейся вширь, раздельностью. В самом деле, все то, что возникает от производящего на свет, содержится в нем, причем в едином слиянии, которое и необходимо считать его наличным бытием. Ибо все то, чем оказывается каждая вещь, она привносит от самой себя, а все появляющееся на свет выступает как развертывание некоего слияния, существующего в производящем его, подобно тому как всякое число есть поступательное движение монады72• Действительно, именно в этом смысле мы говорим также о том, что все, в совокупности разделяющееся на части, оказывается, с одной стороны, общим, а с другой — скорее частным. А почему это происходит? Разве нет необходимости в том, чтобы простое живое существо содержало в себе все те живые существа, которые есть73, причем в смысле не только глубины, когда речь идет о небесном, воздушном, водном и сухопутном живых существах74, но и ширины, когда имеются в виду человек, бык и конь?75 В таком случае наличное бытие ума есть не только заключенная в нем глубина, но и многообразная широта видов, подобно тому как в Зевсовом уме76 и в самом боге все они присутствуют в своем наличном бытии, и одни боги, возникая как целостные — в смысле ипостаси, простирающейся вглубь,— становятся совершенными и обладают общим именем с целым, примером чего у теургов являются семь Дважды Потусторонних демиургов; другие же появляются в согласии с некой частью и получают в удел какую-то долю целого и потому выходят за пределы порождающей природы и становятся иноименными ей, будучи порождены ею, но в согласии с чем-то определенным из того, что образует ее наличное бытие, а вовсе не в соответствии с ней в целом. Следовательно, и неединовидное рождение происходит на основании наличного бытия как разделенного, причем в связи с чем-то определенным, что выделено в нем.
12.5. Зевсова последовательность
Однако почему Зевсова последовательность77, берущая свое начало именно с Зевса, одна, несмотря на то что от него происходит множество последовательностей? Вероятно, любая соименность возникает в согласии с производящим на свет, взятым в целом, и потому в данном случае также возникает соименность с ним, хотя вследствие нарастания частности скорее всего появляется некое отличиие от него. Ведь всякий Зевс — отец всех богов78, даже если они и произошли от какого-то из тех богов, которые заключены в нем. Ибо Дважды Потусторонний всегда является общим, и даже если бы он сам звался Зевсом, то ведь и один из частных истоков в нем — это также Зевс, как другой — Гелиос79, а третий — Афина, поскольку относящаяся к каждому из богов частная последовательность проистекает из определенного частного истока. Так вот, если бы в данном случае существовал так называемый исток Зевса, одноименный целому, то и он произвел бы из себя соответствующую частную последовательность.
Правильнее всего говорить следующее: либо всеобщий исток не будет именоваться Зевсом, и это имеет место лишь в применении к частному, либо будет наблюдаться обратное; если же имя является общим, то должна существовать соименность. В самом деле, обсуждаемые дне природы различаются между собой, коль скоро одна принадлежит к общим истокам и производит из себя всего лишь исходящую из истока последовательность, а другая — к частным и превращается в начальствующих <богов> и архангелов, в азонов и зоны80, что является законом выхода за свои пределы для воспеваемых частных истоков. Ведь одноименность будет наблюдаться уже в применении к другим истокам, причем как общим, так и частным, даже если одновременно проявится некое природное родство, предоставляющее эту самую одноименность, подобно тому как оно относится к Зевсовым хранителям и начальствующим телетархам81. Действительно, всякое начальствование соответствует частному истоку; потому начальствующая Геката, как говорят, проистекает от венца, подобно тому как начальствующие жизнь и добродетель — от частных истоков, соответствующих поясу82. Точно так же Ямвлих причисляет частный исток неумолимых богов как к частным, так и к общим истокам83. Да и чего же удивительного было бы в том, если бы кто-нибудь выделял некий частный демиургический исток, иной по сравнению с общим, в качестве всякого объемлющего, каковым считают исток, соответствующий магии84, из которого произрастает собственная частная последовательность; так вот, чего было бы удивительного, если бы кто-то в обоих случаях использовал имя и «Зевс», и «демиург», но в одном — как противоположное совершенствующему, охранительному и катартическому, так же как и всем частным идиомам частных истоков, а в другом — как демиургическое Все, соотнесенное с прекрасным и содержащее в себе связанные с материей причины85. Итак, вот какие обоснования я привожу в данном случае.
12.6. Выводы
На основании всего сказанного необходимо сделать вывод, что отделяющееся от единого при выходе за свои пределы, конечно же, содержится в этом едином в слиянии, так же как любая последовательность предвосхищена в собственном для нее частном истоке,— как всего лишь перечисление и наподобие заключенности гебдомады, проистекающей из общего истока последовательности86, в самом этом истоке. Однако вся совокупность частных истоков предвосхищена в их собственном общем истоке, поскольку раздельность вычлененных внутри его многих частей каждого вполне совершенного истока послужила прообразом част-пых истоков, возникающих вовне вокруг всеобщих. В самом деле, космос, объемлющий части, аналогичен упорядоченным вследствие этой раздельности частям божественного облика: пояс аналогичен препоясанной талии бога, а венец — вискам и челу божественной головы. Опять-таки эта самая раздельность частей в ширину, являющаяся делом бога и возникающая от проистекающей от него гебдомады, и число, предвосхищенное в монаде в смысле глубины, соединены в едином и целом. Точно так же и свитость семи первых истоков слитна в триадах наиважнейших из них, а сами эти триады в свою очередь — в едином истоке истоков. Таким образом, всякая происходящая из последнего расчлененность, независимо от того, относится ли она к самому истоку или к чему-то частному в нем, равным образом слитна. Если же в нем существуют и многие соединенные вещи, на основании которых выделяются то одни, то другие многие вещи, то, разумеется, потому, что на вершине умопостигаемого даже видимость множества поглощена единством.
Итак, в сказанном необходимо найти для себя доказательство следующего: внешнее множество, разделяющееся в порождаемых вещах, всегда произрастает из внутреннего, слитного множества, заключенного в том, что их порождает. Поэтому разговоры о противоположностях оказываются верными, поскольку если в порождающем существует многое, то, разумеется, потому, что в непосредственно примыкающем к нему порождаемом оно превращается в разобщенное. И если в порождаемом многое претерпело внешнее разделение, то, конечно же, потому, что оно предвосхищено в непосредственно примыкающем к нему порождающем. Производящей же причиной является то, что изначально существует в порождающем, как и все то, что просматривается в нем и некоторым образом заранее предписано порождающей причине в смысле как ее наличного бытия, так и слияния.
Третье суждение, следующее за названными,— то, что все последующее всегда предвосхищено в предшествующем, а частное — в общем, оказывается ли оно тем же самым по своему виду, обладая своим собственным предвосхищением в согласии с глубиной, или же иным, обретая его в соответствии с шириной.
Четвертое — то, что все расчленено в собственных чинах и наличествованиях; впрочем, в ничуть не меньшей степени все пребывает также во всем, причем в любых чинах так, как это им свойственно: в одном — в нерасторжимости, в другом — в разделении, в третьем — в раздельности, а кроме того, во всех этих случаях в одном — в качестве стихий, заключенных в то, что состоит из них, в другом — в виде частей целого, в третьем — как виды и их совокупность в монаде. Внешнее множество возникает в качестве аналогичного внутреннему: в одном — как происходящее от монады число и как множество умов, появляющихся от единого ума87, в другом — как возникающие от целого части, например когда многие жизни берут свое начало от одной, в третьем — как стихии, рождающиеся от того, что состоит из них, например когда множество сущностей происходит от одной. Потому-то последние по природе более всего связаны между собой, будучи объединены в то, что некоторым образом оказывается нерасторжимым; жизни, скорее, разделяются и соотносятся между собой так, как это свойственно частям целого; что же касается чисел и умов, то они разделены в рамках собственных самосовершенных пределов. Потому-то вполне очевидно, что многие умы следуют за единым и возникают от него; в отношении жизней, самосовершенных во множестве прежде умов, это не столь ясно, а в применении к сущностям вследствие их полного единства и совпадающего со стихиями облика подобное проявляется менее всего. Пусть даже это и неочевидно, все равно необходимо согласиться с тем, что и жизнь, и сущность оказывается чем-то многим, коль скоро последняя состоит из стихий и смешана из них, а первая установилась как нечто, отделяющееся от целого, и состоит из частей, в то время как ум есть вид, образующийся из видов.
Следовательно, любая вещь — это единое и многое, а совокупное внутреннее множество, как было сказано, есть порождающее начало для внешнего. Таким образом, вслед за единой сущностью в согласии с какой-то одной среди множества стихий, управляющих каждой сущностью, принимающей определенный облик, необходимо появиться множеству сущностей, а вслед за единой жизнью — проистечь множеству жизней, каждая из которых подчиняется своей собственной части; точно так же вслед за единым умом возникает множество умов, каждый — под действием какого-то из множества видов, ибо внутреннее множество всегда с необходимостью порождает внешнее. А еще правильнее сказать вот как. Целое рождает целое, а именно последующее целое, части сами по себе — части в последующем целом; целое же, соответствующее каждой из частей,— это какое-то частное целое. То же самое происходит и с составленным из стихий, и с самими стихиями, а также с монадами и с совокупным числом, поскольку и монада рождает в каждом числе монадическое, а множество в монаде — это повсеместное множество; впрочем, при этом монада в согласии с заключенным в ней числом порождает и все разом как число, и каждую вещь — в соответствии с единым видом, принявшим определенный облик и вобравшим в себя собственное множество как некое целое.
Далее, в дополнение к сказанному давайте сделаем вывод, что в предшествующем в слитном виде пребывает все то, что в последующем разделяется. Потому-то все есть и в умопостигаемом, и в умном устроении, так же как и в промежуточном между ними. Однако ведь оно присутствует и в каждой, скорее пустой, вещи88 — вплоть до чувственно воспринимаемого; впрочем, в отдельных предметах собственным для них образом заключено и все иное, в соответствии с которым можно было бы определить нечто собственное для них, точно так же, как и его большая или меньшая степень, а вернее, некое своеобразие единства и раздельности в каждом отдельном случае, поскольку эти отдельные вещи будут различаться между собой вследствие как объемлющего, так и объемлемого.
Так что же, разве выход последующего за пределы предшествующего является не рождением, а всего лишь появлением и разделением, как мы говорим, того, что скрыто в высшем и пребывает в нем в слитности? Похоже, что мы ведем речь о разделении, создающем каждую вещь в ее собственном наличном бытии, которое ранее не было еще его своеобразием, поскольку во всеобщем слиянии оно еще не выделилось в виде этого самого своеобразия. По крайней мере, до этого существовало само наличное бытие другого, пребывающего в виде целостности; таким образом, оказывается, что все равно — говорить ли о разделении или же о рождении последующего от предшествующего.
Итак, пребывает ли все то, что вслед за этим будет существовать в раздельности, в том, что ему предшествует, в слитности? В самом деле, в таком случае и атомы в видах окажутся соединенными, поскольку разделение производит на свет от первых вещей также и их. А это скорее всего неправильно, так как причинствующие среди атомов будут оставлять слияние без внимания тогда, когда они не будут более существовать или же когда их еще не будет89. Среди вечного появится нечто непричастное вечности, или же вечность в этом случае окажется пустым словом, поскольку обусловленное причиной не будет существовать вечно90. Потому-то мы и не ведем речи о парадигмах атомов; таким образом, не будет необходимости также предполагать и их изначальную слитность.
Но, однако, разве и они не будут рождаться от предшествующего, причем отнюдь не в силу необходимости для рождающегося изначально присутствовать в слитном виде в порождающем? Скорее всего то, что созидает самим своим бытием и производит собственные порождения от своей сущности, предвосхищает слияние порождаемого, а все то, что изобретает виды вовне, при посредстве внешних энергий, как, например, это имеет место в применении к искусственным вещам, вовсе их не предвосхищает91. Точно так же возникают и атомы, связанные с видами,— благодаря простирающимся вовне энергиям движущихся причин.
Так откуда же берется подобное видообразование? Да ведь оно созидается как внешнее. А каким образом оно могло бы созидаться, если бы созидающее не предвосхитило бы его в себе? Похоже, что оно в связи с видообразованием внешнего придает форму собственным энергиям и предвосхищение видов возникает вовсе не в сущностях, а в энергиях, пребывающих то в одном, то в другом состоянии. Каким же образом энергии обретают форму? Скорее всего, всегда находящиеся под рукой атомарные энергии возникают от всеобщих, изначально заданных видов, но, поскольку они именно вот таким, определенным образом изменяются, будучи выполняемыми, принимают свою форму и, вообще говоря, превращаются в виды, они и оказываются тем, что создает атомы. Вот каково предвосхищение атомов, изменчивое в изменчивости энергий; оно есть результат последних, перестраивающихся то одним, то другим образом.
Стало быть, либо в отношении рассматриваемых вещей необходимо дать именно такие определения, либо, если бы нас к этому вынудило рассуждение, следовало бы сказать, что у движущихся вещей имеется неподвижная причина92, примерами которой по отношению к возникающим и гибнущим атомам являются ум-демиург, первая сущность вообще и, конечно же, единое начало всего. В самом деле, разве могло бы что-либо появиться не от него? Да и почему бы главенствующим началам всего не быть его причиной? И что среди последующего не объемлется предшествующим?
Так вот, если бы кто-нибудь поверил в это так, как верю я, то что мы тогда могли бы сказать относительно соответствующих апорий? Скорее всего то, что неподвижная причина пребывает в слитности в связанном с ней неподвижном,— и это общий путь вечного рождения, как бы воспроизводящая причина неиссякаемой природы, приносящая в своей простоте все рождающееся, вплоть до бесконечности. Следовательно, поскольку это рождающееся появляется разом, то, говоря яснее, <неподвижная причина> заранее, от века владеет единой причиной всех и всяческих атомов, причем не как чем-то частным для меня или для тебя, а и для меня, и для тебя, и для того, что когда-либо было, и для того, что когда-нибудь будет. Вот в каком смысле пребывают в ней в слитности атомы и вот в каком они от нее отделяются,— и это подобно тому, как солнечный свет извечно пребывает в пределах собственной общности и отделяется так, как это свойственно атомам всех отдельных вещей, поскольку он владеет единой светоносной причиной для всех атомарных глаз93. Вот что должно быть сказано по поводу этой апории.
97. Впрочем, к данным определениям необходимо добавить еще и то, что наличным бытием во всех случаях оказывается то, что в каждом из них или соединено, или разделено, так что в Зевсе Афина является наличным бытием Зевса94, а когда она низвергается с его высоты, она, разумеется, оказывается собственно Афиной. Однако другое может также участвовать в ней, и потому Афина в качестве девы есть наличное бытие девы. И если бы философы95 так и говорили — что каждая вещь тройственна: она выступает как причина, когда Афина пребывает в Зевсе, как наличное бытие, какова она сама по себе, или как сопричастность, когда она выступает в качестве девы,— то они говорили бы прекрасно, с тем лишь уточнением, что каждый раз необходимо определять именно наличное бытие, принадлежащее в одном случае Зевсу, поскольку при этом сама Афина образует наличествование Зевса в раздельности, во втором — ей самой, а в третьем — девы, потому что тогда она восполняет дочернее множество.
Это можно было бы, пожалуй, понять и путем, более тесно связанным с диалектикой. В самом деле, так называемые роды сущего96 в каждом случае образуют состоящую из них ипостась, но при этом как объединенные они создают сущность, как разделяющиеся — жизнь, а как разделенные — ум, причем простой — в согласии с равносильным разделением и частный — всегда в соответствии с тем, что имеет власть склониться к тому или иному роду, части или виду. А еще логичнее то, что простой человек существует в живом существе благодаря единому наличному бытию живого существа вообще, всеобщему по природе и охватывающему все живые существа; однако помимо бытия в качестве живого существа есть и наличное бытие человека как таковое. В-третьих же, просто человек в качестве стихии, словно живое существо в человеке, присутствует и в человеке как сухопутном живом существе, и, разумеется, во мне-атоме; следовательно, такое присутствие имеет место в наличном бытии. Действительно, даже если в таком случае и изливается свыше сопричастность, подобное излияние оказывается частью наличного бытия того, во что оно совершается. Вот что нужно сказать по этому поводу.
13. Разрешение второй апории
97а. Давайте теперь вернемся к тем предложенным выше апориям, которые предшествуют рассмотренным. Так вот, с тем, что и в единовидном присутствует неединовидность и наоборот, о чем изо всех сил вопиет недоумевающий разум, необходимо согласиться. Однако в никак не меньшей степени один выход за свои пределы является единовидным, а другой — неединовидным. Всякая Афродита97 и всякая Афина некоторым образом пребывают в пределах первой Афины и первой Афродиты, пусть даже каждая частным образом несколько отличается по своему виду при сохраниении одного и того же своеобразия. По крайней мере, общность имени и раздельности сохраняется как нечто общее и пребывающее; потому-то это и имеет место применительно к каждой последовательности при выходе за пределы единого и возвращении к нему. Однако если Эрос рождается от Афродиты98 или Афина — от Зевса, то выход за свои пределы оказывается неединовидным, поскольку Эрос покинул Афродитовы пределы, а Афина — Зевсовы. И тем не менее, конечно же, Афина обладает чем-то Зевсовым, а Эрос — Афродитовым, почему они и владеют чем-то, принадлежащим к тому же виду, что и породившие их. Впрочем, это подобно сохранению общего в пределах различного, точно так же как в первом случае различающееся проявляется в границах общего. Следовательно, при этом Афина и Зевс не оказываются одинаковыми по виду ни как боги, ни как умы, ни как демиурги. Ведь соответствующие общие состояния сопутствуют тому, что принадлежит к одному виду, например когда речь идет о многих Афродитах, поскольку демиургическими среди них оказываются все те, которые являются всенародными ", и все они — тоже умы и богини. Эросы и Афродиты принадлежат к одному роду в том же самом смысле100. Итак, то, что принадлежит к одному виду, следует определять не на основании более общих родов, но в связи с важнейшими видами наличного бытия, с которыми соотносятся и важнейшие имена. Стало быть, все Афродиты одинаковы по виду наряду с некой инаковостью, а Эросы и Афродиты — неодинаковы наряду с определенной тождественностью. Существуют также и скорее родовые эпонимы101 принадлежащего к одному виду и к разным, и возникают они наподобие того, как от генады появляется сущность, от сущности — жизнь, а от жизни — ум, от ума — душа и от души — телесное, а, с другой стороны, от единого — объединенное, от объединенного — разделяющееся и от разделяющегося — разделенное; сюда же относятся неподвижное, вслед за ним — самодвижное, а потом — движимое иным. В третьем случае от бога появляются боги, от сущности — сущности, от жизни — жизни, от ума — умы, от души — души, а от единого природного живого существа — многие такие же живые существа.
Какая же из двух последовательностей важнее — единовидная или неединовидная? Да ведь если подобное рождается прежде неподобного и если умопостигаемые боги появляются на свет от простого бога прежде умопостигаемых сущностей102, то и в применении ко всем остальным предметам будет иметь силу то же самое рассуждение относительно порядка их следования. Кроме того, оно применимо и в случае, если одно рождение приводит к возникновению стоящего ниже космоса, например, умно-умопостигаемое — <умного> из умопостигаемо-умного и так далее, а другое создает тот же самый космос, подобно тому как Крон породил собственное титаническое устроение, а затем уже — стоящее ниже демиургическое; так вот, если это верно, то ясно, что единовидное возникновение более почитаемо, нежели неединовидное.
Однако появление на свет, мог бы сказать кто-нибудь, вообще-то есть выход за пределы порождающего, а всякий выход за пределы приводит к тому, что порождаемое оказывается иным по своему виду. Эта самая инаковость есть нечто сопутствующее одинаковости, и в данном случае, пожалуй, можно согласиться с тем, что она важнее. Впрочем, это не вполне верно. Ведь прежде всего необходимо существовать одинаковому по виду, с которым сосуществует неодинаковое, так как каждая вещь появляется на свет, пребывая собой, а пребывание в пределах причинствующего определяет подобие и тождественность ему. Итак, пусть в данном случае будет сделан именно такой вывод. Вслед за этим давайте рассмотрим то, что стоит по ту сторону апорий.
14. Разрешение первой апории первым способом
14.1. Закон эманации множества
В самом деле, по поводу неединовидного и единовидного возникновения до этого уже было сказано, что нет необходимости смешивать эти два рода выхода за свои пределы под тем предлогом, что в каждом из них имеется нечто от другого. Относительно же объединенного нужно выяснить, способно ли оно к какому-либо выходу за свои пределы вообще и к какому именно.
Ведь то, что существует умной выход за свои пределы и что многие умы возникают от единого ума, можно было бы, по справедливости, допустить. И если это не так, то нам все равно необходимо исследовать то, имеется ли много умов и много душ. Ибо самое правильное — это утверждать, что рассуждения, показывающие, что прежде движимого иным должно существовать самодвижное, а прежде того — неподвижное, вынуждают нас предполагать, что прежде души имеется единый ум И что единая душа, одушевляющая все, находится ниже единого ума103. И если рассуждение показывает, что впереди ума идет жизнь, а впереди жизни — сущность, то это вновь вынуждает сделать вывод о том, что единая сущность и единая жизнь идут впереди единого ума. То же самое можно было бы сказать и относительно единой генады, предпосылаемой единой сущности. А из чего явствует, что многие боги, многие сущности, многие жизни, многие умы и многие души появляются как отдельные числа, возникающие вслед за их собственной монадой? Скорее всего, путь доказательства в этом случае тот же самый, а именно связанный с настоящим рассуждением: они возникают от внутреннего многого, приводящего к рождению, при том, что вовне они становятся уже множественными, и именно в единовидном или неединовидном выходе за свои пределы, подобно тому как выше было проведено различение разделяющегося вглубь или вширь.
14.2. Множество умов
В самом деле, причинствующее, будучи единым и многим, совершает рождение и в том и в другом качестве, а также как совокупное — одновременно единое и многое, при том, что единое в соответствии со своей властью оформляет каждую вещь и в то же время последняя оказывается единством сущего и многого в этом едином. Ведь точно так же и от простого ума возникает связующий, от него — титанический, а от того в свою очередь демиургический. Действительно, всякий ум пребывает в простом уме, но каждый из них придает форму чему-то среди содержащегося в нем многого, например связующему, титаническому или демиургическому его видам. Подобное имеет место скорее в отношении частных многих. В самом деле, от демиургического ума появляются и Аполлонов, и Аресов104, и Афинин умы; а если бы была его власть над этим, то в частном в согласии с каждым его видом родился бы всеобщий и пребывающий при самом себе ум, благодаря этому виду обретающий форму, если угодно, человека или коня. Ведь и в таком случае необходимо, чтобы от внутреннего множества видов на свет появлялось внешнее множество умов.
14.3. Множество жизней
Ясно, что и от частей в согласии с ними появляется множество внешних ипостасей частей. Если же целое и части — это жизнь, как мы говорили выше, установившаяся первой в качестве разделяющегося, то очевидно, что названные ипостаси — это некие всеобщие жизни, которые образовались в согласии с множеством внутренних частей и удостоились их чина по отношению как друг к другу, так и к произведшей их на свет причине105. Почему же они всеобщие? Почему целостность — причина всеобщностей? Ведь она порождает части, но, конечно же, не целые. Почему обретают свою форму самосовершенные чины частей, при том, что сами по себе эти части самостоятельными не являются? Скорее всего потому, что это какие-то жизни, еще не занявшие своего собственного положения, так как последнее есть собственный признак ума и всего разделенного, жизни же обладают своим бытием именно в разделении, так что владеют своей ипостасью превыше само-совершенного умного; первая жизнь как целое и части, будучи чем-то самосовершенным некоторым иным образом, если дать ей краткую характеристику, существует именно в самом разделении. Итак, в том же самом смысле являются всеобщими и вот эти жизни, так как положение частей они занимают под действием причины, являющейся всеобщей в описанном смысле, поскольку они возникли в согласии с природой частей и оказываются как бы совокупностью, при разделении соотносящейся с жизнью наподобие монад, обретших бытие вовне не в определенности, а находящиеся еще в процессе получения определения106.
14.4. Множество сущностей
Ведь и первое смешанное производит на свет вслед за собой многие смешанные — я говорю о состоящем из стихий и многих состоящих из стихий вещах как о множестве содержащихся в них стихий, о чем уже было неоднократно сказано. И точно так же вслед за единой сущностью имеется много сущностей, причем появившихся именно от нее, и в этом случае от подобия монады возникает другое число — объединенное от объединенного и сущность от сущности — и занимает положение стихий; при этом сущности оказываются самосовершенными по отношению как друг к другу, так и к порождающей причине вследствие полного единства в своем слиянии, осуществляющемся неким иным, неописуемым способом, связанным со стремлением слиться в единство.
В самом деле, стихии были признаны именно такими и их выход за свои пределы во множестве оказался связанным со многими сущностями. Действительно, подобно тому как от внутренних рождаются внешние множества, точно так же и форму они обретают в согласии с природой этих внутренних множеств. И сущности радуются слиянию и стремятся к почти полной нерасторжимости, жизни же разделяются в той мере, в какой части отделены как от целого, так и друг от друга. А первые умы отграничены друг от друга и от целого, поскольку создают себе отдельную ипостась в собственных пределах.
98. Итак, вот какой вывод делается на основании всего и относится ко всему: в то время как внутри собственно единого содержится некое множество, соответствующее множество рождается также вовне, подобно некоему числу, произрастающему из связанной с ним монады. Ведь единому, способному к порождению, необходимо находиться повсюду и быть тем, что объемлет собой и единое сущее, и многое, а также тем, что производит на свет и единое, и многое.
14.5. Проблема внешнего множества умопостигаемого
Стало быть, не получается ли, что простое многое вовсе не есть многие виды, так же как и многие части или многие стихии, не оказывается ли оно, напротив, всего лишь и просто многим, на которое мы указываем как на то, что прежде всего стоит превыше всех остальных многих? И разве не творит оно внешнее множество по аналогии с самим собой? А что если оно располагается в умопостигаемом и последнее совершает выход за свои пределы? Да ведь это и есть изначальный предмет нашего исследования: разделяется ли в выходе за свои пределы объединенное и каково будет разделение того, что обладает бытием в полном единстве. В самом деле, многое, заключенное в нем, в данном случае отнюдь не таково, что как-то различается внутри себя, поскольку в нем еще нет инаковости, так же как любого различия и какой бы то ни было определенности вообще. Парменид показал это, представив его кажущуюся раздельность как гомеомерную и поставив первую инаковость ниже его, а представление о первом числе соотнеся с этой инаковостью и выработав его при ее посредстве107. И такой подход естествен, ибо там, где имеется инаковость, существует и определенность, а там, где располагается она, нет никакой эйдетичности, так как определенность вовсе не эйдетична, как не эйдетична и инаковость, противоположная тождественности108. Конечно же, тождественности там наряду с ней не существует, причем не потому, что части являются иными по отношению друг к другу, а потому, что в этом случае некоторым образом произрастают стихии, которые становятся не просто многим, а именно вот этим многим, как бы готовящим их к слиянию между собой. Подобное же — это некое различие; потому-то, в согласии с неявным внутренним различием стихий, вовне обращен выход за свои пределы, породивший многие сущности, даже если вследствие тоски по изначальной природе109 они и стремятся к однородному слиянию между собой.
Что же касается умопостигаемого многого, то оно совершенно неразличимо и бескачественно и потому полностью объединено и многим именуется как единая, но изобильная природа; в этом-то смысле о нем и говорится как о многом. Потому оно и оказывается беспредельным множеством110, так как в нем нет никакого предела и ничего вот такого по количеству, ибо оно неисчислимо и неколичественно. Оно также не содержит чего-то качественно определенного, так как неразличимо и некачественно. Более того, количество и качество в нем вообще не разделены, ибо его простота, не терпящая раскола единого и сущего, оказывается объединенной. Потому-то, по справедливости, можно предположить, что это внутреннее множество пребывает в умопостигаемом и никоим образом не выходит вовне в виде ипостаси внешнего множества.
14.6. Эманация всего за пределы объединенного
Итак, ему, пожалуй, не мог бы принадлежать выход за свои пределы как таковой, однако, раз оно вообще-то является многим, от него рождается все — вплоть до атомов, поскольку, как было сказано выше, сама бесконечность атомов происходит от него — в согласии с производящей все, единой и имеющей бесконечное множество потомков силой умопостигаемого:
...Все ведь оттуда В низшем начало берет, и лишь нечто прибавив случайно, Там возникает всеформной материи все становленье...
И здесь имеют силу все иные сходные оракулы, которые даровали боги по поводу соответствующего чина. Однако и Орфей восклицал относительно этого многопочитаемого бога так:
Мудрый и семя богов приносящий, прославленный Эрикипей!
Из него он выводит все появление богов на свет.
Действительно, если говорить о возникновении вширь, в нем, как утверждает теолог, все по отдельности заранее существует в виде объединенного предвосхищения, которое он и назвал семенем всего113. Ведь все сперва было также объединенным в нерасторжимости, по каковой причине и выделилось из этого объединенного. Да и чего же удивительного в том, что простое единое предвосхитило все благодаря своей все-совершенной и единичной простоте? Глубины же в едином нет, так как нет и множества, различающегося в смысле ширины, поскольку глубина такого множества проявляется в его выходах за свои пределы. Объединенное множество есть нечто неразличимое в том же самом смысле — как всего лишь множество многих вещей, при том, что из единства, в отличие от смешения, отдельные вещи не выделяются, поскольку это самое смешение можно соотнести с различающимися стихиями, а единство — с неразличимым многим. Потому-то в наших рассуждениях последнее и создавало объединенное, в то время как первое — то, что состоит из стихий. Именно поэтому выход за свои пределы состоящего из стихий и был обращен вовне — как нисходящий в смысле различий этих самых стихий. Что же касается объединенного, то всякийего выход за свои пределы остался внутри, так как оно не обладает в себе различием ширины и глубины114 во внешнем выходе за свои пределы, ибо, поскольку этого различия не существует, оно ожидает его склоняющегося как ко всему, так и к совокупному внутреннему.
Возникновение же от чего-то иного оказывается не тождественным появлению на свет от самого себя. По крайней мере, все материальное и космическое происходит от всеобщего демиурга, пусть даже он и не достигает состояния материи, делимого на части и околокосмического чина. Следовательно, в данном случае умопостигаемый бог115 произвел все божественные устроения из самого себя, а сам остался в собственном, подлинно сверхкосмическом месте, снизойдя до этих устроений лишь настолько, насколько его собственная монада обустроила царство всего116. Стало быть, он, оставшись как целый неделимым и умопостигаемым, в некотором смысле образовал единую последовательность с теми космо-сами, которые проистекают из него. Среди наиболее общих богов, следующих за ним, каждый при выходе за свои пределы либо утраивается, либо усемеряется, а среди частных каждый приумножается в иное, большее число раз, однако сам он оказывается единой и на деле пребывающей собой монадой всех чисел выхода за свои пределы, причем собственно монадой, превосходящей, как говорят теурги, все монады и все однородное множество, проистекающее из своего истока. Потому-то у них и воспевается исток истоков117.
14.7. Неразличимость и троичность в применении к объединенному
Однако если объединенное оказывается во всех отношениях неразличимым и потому не способным к выходу за свои пределы, то благодаря этому мы в состоянии разделить умопостигаемое на три части: на первое, промежуточное и последнее, или на сущность, жизнь и ум, или же на отца, силу и ум, или так, как этого можно было бы еще пожелать. А вот если бы мы отнесли три умопостигаемые триады118 на счет ума, то объединенное оказалось бы разделенным, причем многими способами; об этих трех чинах умопостигаемого поведал нам Платон в «Пармениде», назвав первый единым сущим, промежуточный — целым и частями, а третий — беспредельным множеством119. Речь об этом мы вели выше, когда сделали вывод о том, что бытие нерасторжимого располагается в разделенном. Да разве и Орфей не производит на свет досточтимого Фанета из яйца и разверзшегося облака120, предполагая тем самым выход умопостигаемого за свои пределы?
Пожалуй, в ответ на это необходимо сказать, что мы восходим К умопостигаемому, делая подобные выводы на основании низшего, пытаясь выявить по аналогии с более понятными вещами хоть какие-то его признаки, поскольку единое и сущее разделяются уже вне пределов умопостигаемого. Что же касается целого и частей, то Платон вполне определенно относит их к среднему чину умопостигаемо-умного; и бесконечное множество выделяется им там, где появляется раздельность121. Да и чего же удивительного в том, что, имея в виду умные устроения, мы готовы наглядно представить себе также и промежуточные? Ведь мы мыслим все эйдетическое и, пожалуй, душевное. Таким образом, объединенное не является разделенным, как, разумеется, и разделяющимся, ибо оно есть единственно и изначально объединенное. Следовательно, в нем нет и многих видов, так же как частей и стихий; потому-то, в согласии с истиной, в нем нет и выхода за свои пределы — будь то внутреннего, будь то внешнего,— так что триада появляется уже после умопостигаемого.
Натрое ум и отец приказал рассекаться всему, Где, вожделея, склонился; и вот уже все разделилось
Бог воспевается как трезубец123, разумеется, не потому, что он создал триады, а скорее потому, что он — полновластный хозяин триадической раздельности, но вовсе не ее творец. Вот каково подлинное объединенное.
99. Однако описанное не есть собственно объединенное, поскольку мы, попытавшись увидеть как единое, но оказавшись не в состоянии узреть его единого единства, по аналогии с первым множественным стали считать его таким же множественным, как и оно; первым же множеством оказывается триада. Потому мы по аналогии предположили, что оно является триадическим, и поэтому-то оно — также по аналогии — будет выходить за свои пределы. Ведь внутренняя триада стоит ниже его как умопостигаемое, умное и находящееся между ними, а внешняя в таком случае воспринимается как соименная — связанная с теми же самыми именами и соответствующими им предметами.
Следовательно, необходимо или говорить именно так, или же, допустив в этом полном единстве какое-то ослабление, полагать, что всякий космос, возникнув в себе в том состоянии, до которого ему по природе было свойственно дойти, затем предоставил в себе место для ипостаси того, что следует за ним, но сам уже не снизошел к этому, подобно тому как космос душевной сущности, дойдя до какого-то состояния, остановился; вот это-то его состояние и воспринял телесный космос124. Умной космос достиг своего завершения в душевном, точно так же как умопостигаемый — в умном; это имеет отношение именно к последнему. Стало быть, при этом умопостигаемый космос вышел за свои пределы и его восприемником стал умопостигаемо-умной. Итак, природа умопостигаемого не покидает соответствующего ей космоса, ибо ничего подобного не происходит также ни с каким иным космосом в его нисхождении к другому.
Если же первые предметы в космосе, извечно находящемся ниже, расположены в определенном порядке, то они соединены между собой, словно вместилища для тех, которые находятся выше их, подобно тому как последние отказываются от подобной сопряженности. В самом деле, отнюдь не все тела зависят от собственных душ, так же как и не все души — от умов, а во всех остальных случаях последующее — от предшествующего, и среди умопостигаемого ничто не выходит за свои пределы в низшее так, как будто последующее оказалось в зависимости от него в едином совместном строю несомого и того, что его несет. Напротив, умопостигаемое как причина подобного проявляет себя как целостное и ничему не предоставляющее сопричастности, а умопостигаемый космос является высшим состоянием для всех космосов, так что он служит опорой для самой всеобщей вершины. И поскольку он есть все в нерасторжимости, то либо равным образом обособлен от всего разделяющегося, либо равным же образом выступает как несомый всем. Ведь его общность помогает всему, ибо она совершает это вовсе не потому, что он замыкается в нерасторжимости,— в этом случае он не был бы величайшим среди всех космосов. А разве могло бы появляться в нем различие, при котором он превращается в несущее и несомое?125 В самом деле, одно несомое становится несущим другое, и потому, если бы он превращался в то, что несет иное, так же как ум несет душа, а душу — тело, значит, и то и другое будет несущим, подобно тому как душа является им для ума, а сам ум — для чего-то иного. Так что же именно «несет» умопостигаемое? Ведь при этом первый бог будет служить предметом сопричастности; первому же предмету сопричастности необходимо присутствовать повсюду.
Тем не менее тело — это скорее всего только несущее, а умопостигаемое — несомое; промежуточное же может рассматриваться и с той и с другой точек зрения126. Однако если и оно будет разделяться на допускающее сопричастность и не допускающее ее и не только единое окажется ее предметом, но будет существовать множество того, в чем участвуют многие вещи: одному будет причастна сущность, другому — жизнь, третьему — ум, четвертому — душа, пятому — тело,—то и несомому необходимо будет различаться по своему виду, так же как сверхкосмическому богу нужно будет отличаться от внутрикос-мического, умному — от сверхкосмического, а умопостигаемо-умному — от умного. Так вот, трудно даже представить себе, какова могла бы быть и откуда могла бы взяться столь значительная разница в объединенном.
Кроме того, единое отнюдь не выходит за свои пределы — ни благодаря самому себе, ни вслед за самим собой, а что касается того, что следует за умопостигаемым, то откуда могла бы взяться присущая ему инаковость? Стало быть, и в самом себе, и вслед за собой умопостигаемое заняло промежуточное положение вполне справедливо, поскольку оно возникло в самом себе, а вслед за собой не создало для себя никакого выхода за свои пределы.
К перечисленному необходимо добавить и то, что первым несомым оказывается генада, а первым несущим — сущность; объединенное же было прежде их обоих, а значит, прежде несущего и несомого вообще. Следовательно, его природа не приемлет отличия, относящегося к несомому, поскольку оно существовало прежде того единого, которое стало первым несомым в согласии с самим отстоянием от сущего как второго от первого127.
А если бы кто-нибудь обдумал слова Ямвлиха128 о том, что умопостигаемое расположено вокруг единого, родственно благу и связано с тягой к нему всей природы, причем такой, как будто она сплочена с ним129, то ему стало бы ясно, что наряду с ним существует нерасторжимое и неспособное к выходу за свои пределы вовне. Стало быть, если на самом деле оно в самом себе дало намек на некое высшее подобие нисхождения, выделенное при этом не на основании числа, так же как и не на основании множества, и, разумеется, инаковости, то, как опять-таки говорит Ямвлих, триада умопостигаемого — это вовсе не три монады, сочетающиеся с возникшим в дополнение к ним эйдосом, но лишь сам такой эйдос130. Впрочем, еще правильнее утверждение о том, что она — вовсе не эйдос (ведь эйдосов <в умопостигаемом> пока нет), так же как и не подобие стихии (ибо там никакой из стихий не существует), а само единое триады, причем не отделенное от сущности,— то объединенное, которое, как мы говорим, идет впереди них обоих. Итак, почему же подобному по природе свойственно превращаться во множество ипостасей?
А что, разве в нем нет многого? Похоже, что многое следует за единым и предшествует объединенному, но вовсе не как количественно определенное. Это многое будет генадой, имеющей беспредельное число потомков, первое же ее порождение есть умопостигаемое множество, ставшее вместо единого объединенным, но и оно еще не связано ни с каким числом, так как в нем нет пока никакой определенности, поскольку нет и инаковости. Там же, где все это есть, речь идет о том, что непосредственно вслед за объединенным возникло первое число, причем не эйдетическое, а то, которое соответствует первой определенности, появившейся вслед за совершенно неопределенным в качестве первого множества различного131. Последнее же образовано из первых стихий, поскольку именно в этом случае первым проявилась сама определенность первого определившегося — единого и сущности, а вернее, и их не как определившихся, а как еще только определяющихся и обретших бытие в низшем в разделении как-то иначе, среди высшего. Впрочем, с этим придется еще много раз столкнуться в дальнейшем.
15. Разрешение первой апории вторым способом
15.1. Являются ли внешние множества сияниями или сущностями?
100. Мы должны пройти и по иному пути рассуждений о тех же самых предметах — по связанному с восхождением от низшего, познаваемого ощущением, к высшему среди умопостигаемого, коль скоро именно такое рассмотрение, опирающееся на доказательства и проводящееся при помощи анализа, могло бы, пожалуй, в собственной истинности послужить для нас залогом правильности сказанного. Разум в этом случае ведет исследование не самих монад, а многих вещей, подчиненных им и, конечно же, появляющихся от них на свет.
Итак, дело обстоит вот как: с одной стороны, прежде движимого иным идет самодвижное, а прежде него — неподвижное, а с другой — есть разделенное, а впереди него — разделяющееся, и тому предшествует нерасторжимое. Однако имеется и иной путь рассуждений, связанный с тем, что прежде тела необходимо существовать душе, движущей тело и дарующей ему жизнь, а прежде души — уму, познающему все вместе и неизменным образом; уму предшествует жизнь, а жизни — сущность. Так вот, пусть это будет положено в основу как то, что было доказано всеми наизнаменитейшими философами и в чем они достигли согласия между собой.
Однако мы исследуем вопрос, существуют ли вслед за единой сущностью многие сущности, вслед за единой жизнью — многие жизни, вслед за единым умом — многие умы, а вслед за <единой> душой — многие души. Ведь самое правильное — это допустить, что можно было бы выдвинуть следующее предположение: что от единой души во множество тел нисходит множество сияний132, и что каждым телом владеет присоединяющаяся к нему разумная жизнь, исходящая, как луч света, от единой души, и что кажущееся множество многих душ — это множество вовсе не самостоятельных душ, а лишь душевных сияний, и точно так же нельзя полагать, что множество умов — это множество умных сияний, достигших каждой души на основании каждого эйдоса, определенного в уме. Таким образом, если только кто-нибудь не захотел бы оспаривать очевидные вещи, необходимо было бы согласиться с тем, что сияний много и что они различаются по своему виду и при этом есть всего лишь сияния, которые появляются на свет от различных логосов, содержащихся в единой душе, так же как и от эйдосов, определенных в едином уме. Ведь легко доказать, что множество эйдосов возникло прежде множества логосов и что последнее предшествует множеству телесных эйдосов и материальных изображений. Ибо прежде всего ясно, что истинное следует за вечным и неподвижным, и точно так же можно было бы сказать, что многие жизни, которые кажутся существующими, есть жизненные озарения, исходящие от единой пребывающей жизни и изливающиеся во все живущее, и, в свою очередь, что многие жизни — это некие более слабые их отражения, связанные с сиянием и появляющиеся на свет во всем сущем от единой сущности. Так стоит ли много говорить об этом, когда почти все философы — предшественники Ямвлиха — предполагали наличие многих богов именно в этом смысле, утверждая, что один из них сверхсущностен, а все остальные — сущностей и обоготворены исходящим от единого бога сиянием и что множество сверх-сущностных генад образовано не из самостоятельных ипостасей, а из того, что исходит от одного лишь бога и заложено в самой сути обожествления133.
15.2. Общие определения, относящиеся к сияниям
Так вот, как я часто говорю, применительно к каждому числу, о котором утверждается, что оно занимает определенное положение по отношению к собственной начальствующей монаде, разум исследует то, является ли оно самостоятельным или же только обретающим множественность в виде неких сияний. Сияние также двойственно, и одно — это то, которое отделилось от сияющего и образовало с ним единую связь, а другое — то, которое срослось с освещаемым и стало его принадлежностью, находясь в нем как в подчиненном ему. Стало быть, необходимо исследовать то, какие именно предположения мы станем высказывать относительно этих озарений, если кто-нибудь допустит их наличие вместо самостоятельных ипостасей. Пусть прежде всего будет определено то, что самостоятельная ипостась лучше, нежели озарение, принадлежащее к вещам одного с ней порядка. Например, солнечный свет, если он существует сам по себе, а не в качестве чего-то, зависящего от иного, оказывается некой сущностью, но вовсе не энергией сущности; как самостоятельный он пребывает подле самого себя, и при этом нельзя согласиться с тем, что лучшим является тот свет, который обретает свою сущность в бытии иного. Ясно, что сияние первого вида лучше, нежели второго; ведь даже если оно будет результатом чего-то иного, то лучшего и того, что само сияет, сияние же второго вида оказывается уделом худшего, поскольку принадлежит освещаемому. Одно существует обособленно, а другое находится в положенном в основу и не обособлено; какое именно из двух является каким — вполне очевидно.
Далее, пусть в дополнение к этому будет высказано следующее утверждение: если нечто лучшее находится в худшем, то в лучшем оно тем более существует. Так, например, если худшая по природе душа выступает как самостоятельная сущность, а вовсе не как какое-то сияние, то, разумеется, потому, что человеческая, а тем более божественная душа по природе оказывается лучшей134. Таким образом, если существует душа, то, согласно тому же самому рассуждению, имеется и ум, а если есть ум, то на тех же основаниях есть и жизнь, и если есть жизнь, то есть и сущность; если же есть сущность, то есть и единое. В самом деле, самостоятельное, самодовлеющее и пребывающее при самом себе могли бы располагаться скорее в высшем, нежели в менее совершенном; следовательно, если они есть в одном, то имеются и в Другом. Я говорю об обретающем сущность в качестве самого себя и в себе самом — о том, что по природе находится именно в таком положении. Это сущность, жизнь, ум, душа и тело. Я даю подобное определение на основании того, что среди этого обладает бытием и что мы называем стихиями, частями, видами, логосами, существующими в душе, и иным тому подобным, относящимся к телу.
15.3. Применение изложенных определений к душам
Поскольку дело обстоит так, что существует много тел и они отстоят друг от друга135, сказанное очевидно даже слепому. Что же касается тех из них, которые одушевлены, то либо эта одушевленность возникает благодаря одной, общей для всех них душе, либо вслед за этой единой душой идет множество душ и для каждого тела собственной является какая-то одна из них, при том, что каждая душа есть самодвижная сущность. Однако то, что жизнь для всех тел не является чем-то единым, вполне очевидно, ибо мы воспринимаем ее посредством ощущения то одним, то другим образом. Следовательно, одушевленность отдельных тел является собственной для них: она либо выступает как озарение, сообразующееся с тем, что положено в его основу, либо происходит от собственных для единой души смыслов и появляется именно в каждом из положенных в основу тел. Однако одно из этих утверждений заведомо неверно, так как то, что движет самое себя, полностью обособлено от положенных в его основу или одушевляемых им тел. Похоже, что эти озарения не являются для тел врожденными и обладают своим бытием отнюдь не в них,— напротив, они зависят от сияющих предметов и оказываются или некими их энергиями, или вторыми сущностями, связанными с первыми и проистекающими из них, как свет истекает из того, что светится, или же тем, о чем кто-нибудь пожелал бы вести речь. Они вовсе не будут принадлежать самим себе, но окажутся как бы отростками единой природы, ее частями или сущностными смыслами136. Если это так, то разве испорченность и неведение будут располагаться в тех частных душах, которых даже и не существует? Следовательно, все подобные состояния будут свойственны всеобщей душе. Действительно, если бы в этом мире не было ничего, кроме солнечного света, его угасание оказалось бы его собственным свойством, коль скоро его свечение также принадлежит ему. Однако говорить об этом не стоит и точно так же нельзя вести речь о том, что человеческие души — это отростки всеобщей. Следовательно, они самостоятельны, пребывают при самих себе и в самих себе принадлежат именно себе, а не иному, что означает их полную свободу и подлинную самодвижность.
Если же человеческое тело обладает укорененной в нем одушевленностью, а прежде нее — самостоятельной, как бы вдыхающей в него эту одушевленность душой, то оно некоторым образом одушевляется всеобщей душой, причем, разумеется, потому, что лучшие вещи из одушевленных будут иметь не только ту жизнь, которая заключена в положенном в основу, так же как и не только общую и вдыхаемую ими издалека, но и собственную для каждой из них. Ведь подобная одушевленность лучше, нежели та, которая не связана с обладанием собственной самостоятельной душой. Вообще же, если нечто обладает и худшей душой — одушевленностью, и лучшей — общностью с единой душой, то почему бы ему не иметь душу, занимающую промежуточное положение?
Кроме того, надо упомянуть вот еще о чем. Если наша душа есть некая особенная сущность, но имеется также всеобщая и единая душа, оказывающаяся как бы монадой среди душ, то почему бы не быть и совокупному числу, промежуточному между единой душой, и теми, которые пребывают в низшем в раздельности? В самом деле, разве могли бы самые частные среди всех душ появиться на свет от всеобщей без промежуточных плером?137 Следовательно, необходимо, чтобы каждое одушевленное существо именовалось таковым благодаря собственной самостоятельной душе.
И если бы кто-нибудь, стремясь к точности, говорил бы, что животворение, исходящее от всеобщей и единой души, является двояким, и одно — это то, которое предвосхищает не только особенную жизнь, каковая животворит во Всем даже бездушное, будучи при этом худшей, нежели та, которая является для нее собственной, но и более частные жизни, обретя которые, одушевленные существа оказались еще более живыми; другое же — это то, что привносит в дополнение к особенной и общую жизнь, привходящую от всеобщей души, в согласии с которой обретает общность частное138,— то и в этом случае все равно необходимо, либо чтобы все было бездушным и всего лишь общей жизнью, при том, что жизнь чужда Всему, либо, если существует и одушевленное, чтобы имелась его особенная душа, благодаря которой оно становится более совершенным и общим, нежели душа Всего139. Итак, как можно заключить на основании сказанного, вслед за единой существуют и многие самостоятельные души.
15.4. Распространение приведенных определений на неподвижное в виде объединенного и единого
Если же одушевленное соотносится с душой так же, как обладающее умом — с самим умом, то, я думаю, необходимо, чтобы и в случае ума имело силу то же самое рассуждение. Таким образом, одушевленное тело таково не только как владеющее неким отблеском души, но и как соединенное с самостоятельной душой, поскольку последнее состояние для него будет лучшим, нежели первое. Обладающее же умом — это вразумленная душа, не только располагающая умным сиянием, но и по природе связанная с собственным общим умом, что оказывается для нее лучшим, нежели владение лишь отблеском ума. Ведь не является же лучшим тот эйдос, который занял свое положение среди худшего и обрел в нем свою сущность, а среди лучшего и в лучшем расположиться, пожалуй, не мог бы. Тем не менее я утверждаю, что одушевленное тело сопряжено с самостоятельной душой, но что разумная душа с самостоятельным умом не связана. Ведь если подобный эйдос окажется лучшим, то разве он прежде всего не будет обретать свое бытие благодаря лучшему?
101. Впрочем, тот же самый подход при рассуждениях применим и к уму, и к жизни. В самом деле, ум, по общему согласию, живет, но сама жизнь при этом является принадлежностью ума и пребывает в нем. Следовательно, необходимо, чтобы прежде нее имелась самостоятельная жизнь, в которой ум принимал бы участие в соединении с ней и в сопряженности с чем-то лучшим так же, как тело сопряжено с душой, при посредстве которой оно будет принимать участие в жизни, не допускающей непосредственного участия в себе, и подобно тому, как тело совершает это при помощи собственной души и души назначенного ей по жребию демона (τού είληχότος)140.
Точно так же мы совершим восхождение и от жизни к сущности, причем как к выступающей предметом сопричастности, так и не выступающей. А разве не мог бы кто-нибудь сказать это и об объединенном — на том основании, что оно является трояким: одним — как неотъемлемое свойство, заложенное в сущности, другим — как допускающая участие в себе ипостась и третьим — как не допускающая?141 То же самое рассуждение будет требовать и того, чтобы с простым и предшествующим всему единым была связана тройственная ипостась. Так, одно ее бытие будет подразумевать сияние, возникающее в другом, в согласии с которым мы и называем единым каждую вещь, которая каким бы то ни было образом существует, другое будет соответствовать не допускающему участия в себе наличествованию, а третье — промежуточному между первыми двумя и допускающему сопричастность; именно благодаря последнему участвующее вкушает некую долю того, что участия в себе не допускает. Впрочем, эта апория встретится у нас и в дальнейшем.
16. Разрешение первой апории третий способом
16.1. Теория движимого иным, самодвижного и неподвижного
Я хочу совершить также восхождение от низшего к высшему и с использованием иного способа рассуждений, доказав необходимость существования не только высших монад, всегда предшествующих менее совершенным, но и всех чисел, обособляющихся от собственных монад. Примером этого, разумеется, является то, что я только сейчас говорил: что вслед за единой душой имеется много душ, вслед за единым умом — много умов, и точно так же много жизней и сущностей следуют за единой жизнью и сущностью; во всех этих случаях нам опять встретится та же самая апория, относящаяся к единому и объединенному.
101а. Итак, то, что необходимо предполагать наличие трех последовательных предметов: движимого иным, самодвижного и неподвижного, я думаю, в достаточной мере обосновали еще древние мужи142. В самом деле, если движущееся тело приводится в движение иным, поскольку, разумеется, самим собой оно в движение не приводится, то движущее есть либо <движущееся> тело, и тогда последнее также движется иным — и так до бесконечности, либо нечто неподвижное. Однако почему последнее иногда будет приводить в движение, а иногда — нет? В самом деле, движимое иным проявляет себя в изменчивости, а неподвижное не могло бы, пожалуй, управлять изменением — по крайней мере, по той причине, что оно само не должно изменяться; в основе же лежит именно неподвижное. Пожалуй, поскольку это невозможно, начало изменению как самого себя, так и движимого иным, будет полагать самодвижное143. Следовательно, прежде движимого иным необходимо располагать самодвижное.
При этом, разумеется, движущее — именно как приводящее в движение — совершенно неподвижно, поскольку если бы оно двигалось, то мы ушли бы в бесконечность. И если бы кто-нибудь сказал, что самодвижное есть первое движущее, то оно было бы вовсе не самодвижным, а неподвижным. А если бы оно оказалось тождественным движущему и движущемуся вместе взятым и как движущее было бы неподвижным, а как приводимое в движение самим собой — самодвижным, то оно было бы не неподвижным в чистом виде, а первым движущимся,— поскольку оно приводится в движение не иным, а самим собой, и последним движущим,— потому что оно оказывается не только приводящим в движение, но и движущимся. То же, что не смешано с худшим, следует полагать идущим впереди смешанного в качестве предшествующего. Действительно, если прежде движущегося должно существовать движущее, которое в силу необходимости неподвижно, то нечто, выступающее как движущееся, не может одновременно быть первым движущим, поскольку оно вовсе не есть таковое по преимуществу. Ибо каким же образом одно и то же оказывается в большей мере движущим, нежели движущимся? Разве оно могло бы быть причислено скорее к неподвижным, чем к движущимся вещам? Ведь даже если оно вызывает изменение, то при этом само же и изменяется и, следовательно, не является подлинным неподвижным. Стало быть, прежде самодвижного необходимо существовать неподвижному, природа которого, пожалуй, опять-таки оказывается тройственной. В самом деле, во всех отношениях неподвижны ум, жизнь и сущность: последняя — как сверхвечная, ум — как вечный, жизнь же — как сама вечность144. Или, пожалуй, будет лучше сказать, что одно разделено на виды и определено, другое не поддается описанию и нерасторжимо, третье же в таком случае занимает промежуточное положение, поскольку побуждается к разделению и к собственным очертаниям, но еще не полностью установилось в раздельности и в своих очертаниях. Ясен и порядок следования этих предметов, и прежде них будет располагаться единое для всего145, так как единое и объединенное не тождественны: в этом случае последнее будет нерасторжимым.
16.2. Феноменальное и подлинное самодвижное
102. После того как данные положения были до некоторой степени освежены в памяти, нам предстоит исследование того, что подпадает под каждый род,— как бы многих видов, коль скоро разум будет вынуждать к рассмотрению, помимо общих родов, также и их. В дополнение к этому названному необходимо заранее дать соответствующие определения, и одно из них — это то, что части оформляются одновременно с собственным для них целым и что энергиям частей следует давать характеристику, исходя из энергии целого. Например, ту, что основанное на мнении146 не тождественно по своему виду тому, что касается божественной души, так же как и демонической и человеческой147, но одно — это человеческое, другое — демоническое и третье — божественное. Точно такое же положение занимает в каждом случае и соответствующий логос. Следовательно, самодвижное является тем или иным по своему виду, так что в этом отношении различается и то феноменальное самодвижное, которое происходит от той или иной природы. Стало быть, на основании свойства взаимной обратимости необходимо отметить, что феноменальные видовые различия происходят от подлинных; таким образом, множество феноменальных видов оказывается доказательством наличия множества подлинных, коль скоро феноменальное вообще выступает как подтверждение для подлинного. Следовательно, если простое феноменальное самодвижное пребывает в движимом иным, то это становится у нас доказательством наличия подлинного самодвижного, как это весьма искусно было показано в «Федре»148. И если было бы много видов феноменального, то было бы много и видов подлинного, ибо всякое феноменальное — это свидетельство подлинного, поскольку любое изображение по своему виду в целом отличается от собственного образца. Действительно, если каждое феноменальное одушевленное предстает как самодвижное, причем все они по своему виду не тождественны, то очевидно, что существует много подлинных самодвижных видов; следовательно, имеется и много душ.
Однако, пожалуй, подобно тому как в едином уме присутствует множество парадигм, так и множеством душ оказывается множество душевных логосов, принадлежащих к виду, определенному в единой, Целостной и однородной душе; впрочем, все ее части будут божественными как части совершенной природы; стало быть, в свою очередь, и они совершенны. В самом деле, каждая часть является общей и подлинно космической; при этом не всякое одушевленное тело производит из себя подобные энергии, так же как и не является таковым по природе, напротив, одно — это божественное, другое — демоническое, третье же — человеческое; одно оказывается одушевленным телом Пифагора, а другое — Килона, и одно, например, одушевленным телом Платона, а другое — Клеона149. Следовательно, и преимущественно самодвижные души должны быть по своему виду теми или иными и в еще большей мере отличающимися от феноменальных самодвижных вещей.
Стало быть, вслед за единой и всеобщей существует много душ, но они, пожалуй, не включены в один порядок с одушевленными существами, а пребывают в обособлении и подле самих себя, издалека рассылая блестки одушевленности, благодаря которым становятся одушевленными тела. Однако даже если бы кто-нибудь предположил, будто то, что сейчас говорится, истинно, то это, пожалуй, не имело бы никакого отношения к настоящему исследованию. Ведь рассуждение было направлено лишь на то, чтобы показать, что любое одушевленное обладает собственной душой, управляющей феноменальным самодвижным и при этом отличающейся от него,— приходит ли она издалека, или из некой близости, или каким-либо иным путем или образом150. Помимо этого, существуют и другие энергии одушевленного — неотделимые от него и связанные с жизнью, а также те, которые принадлежат этой самой душе: когда она вступает в сражение с одушевленным151, когда обустраивает и упорядочивает его, когда она бежит от него без оглядки или когда кажется, будто она даже и не присутствует в нем по причине полной отделенности от него152. И все это, конечно же, очевидно в применении к нам самим, по отношению же к демоническим родам по причине их невидимости положение дел менее ясно, при том, что в данном случае могло бы возникнуть множество случайных отклонений, а применительно к богам уже труднее разделить энергии одушевленного тела и души и, кроме того, те, что принадлежат самим богам, с которыми соединены души. Впрочем, относительно этого можно было бы легко сделать точно такие же выводы. В самом деле, отнюдь не получается следующего: наша душа пользуется одушевленным телом как орудием153, и, ясно, что бывают моменты, когда она им вовсе и не пользуется, но при всем том божественная душа не может приводить в движение собственное одушевленное тело, несмотря на то что она делает это всегда и всегда производит на свет нечто, обособленное от нее самой. Итак, если одушевленное тело как орудие частной души зависит от нее, то очевидно, что пользующееся им сосуществует с ним, выступающим в таковом качестве. Это означает, что разумная душа в каждом случае наблюдается совместно с собственным орудием, каковое именно мы и называем вместилищем. Следовательно, многие души возглавляют многое одушевленное, причем те, которые различаются между собой по виду, — в свою очередь различающееся по виду, а подлинно самодвижные — феноменальные самодвижные.
16.3. Феноменальное и подлинное неподвижное
Соверши же восхождение от самодвижного к неподвижному подобно тому, как ты совершил его от движимого иным к самодвижному154. Ведь существует и феноменальное неподвижное, например, в случае небесных сфер вечные, тождественные и одинаковые блуждающие движения155 происходят благодаря душе, ибо она есть некое изменение156. Само же одинаковое, вечное и тому подобное пусть существует и служит предметом обсуждения в связи с неизменностью. Поэтому-то в данном случае, как говорит Плотин, движение по кругу и подражает уму157, а вернее, как утверждает сам Платон в десятой книге «Законов», выказывает себя в качестве изображения движения ума158, поскольку феноменальное неподвижное соотносится с подлинным. Ведь оно подлинно феноменально потому, что «всегда» (άεί) в нем смешано с «иногда» (ποτέ), так как оно все время (άεί ποτέ) движется, а одинаково его то или иное совершение (поскольку одинаковость подразумевает численную изменчивость). Следовательно, движущееся вообще существует благодаря неподвижному159. И если бы в круговращении душ можно было бы усмотреть изображение ума, то и в этом случае смешанное движущееся виделось бы аналогичным неподвижному.
Однако, пожалуй, кто-нибудь мог бы сказать, что подобное неподвижное является даром и изображением не умного неподвижного, а душевного, благодаря которому неизменное существует и в телах,— я имею в виду то, что связано с сущностью. Ведь, конечно, в телесных эидосах и в душах имеется нечто неизменное — сущностное, так как они бессмертны и не приемлют никакого добавления и убавления, как и изменения вообще, поскольку их сущность оказывается либо вечной, какового мнения чаще всего придерживаются философы160, либо рожденной, но не способной ни к какому изменению161. Необходимо согласиться с тем, что существует какое-то становление такого рода и что не все неизменное во всех отношениях вечно. В самом деле, скажем, сущность и ипостась Солнца, будучи вечными и неизменными, отнюдь не могли бы существовать с самого начала: разве могло бы быть таким тело, которое протяженно и располагается в пространстве то там, то здесь, при том, что изначальное неделимо ни в пространстве, ни во времени?
Так вот, все это совершенно верно, что подробно доказывается нами в Других местах162. Конечно, феноменальное неподвижное не будет возводить нас к тому самому, первому неподвижному. Ведь даже если оно весьма близко к нему, то, разумеется, вовсе не к первому и истинному, поскольку мы составили свое представление о подобном неподвижном, отнюдь не противопоставляя его самодвижному и движимому иным, которое, будучи рожденным, оказывается неизменным; оно — это то, что выступает как подлинно изначальное или даже сверхизначальное. Ибо таково подлинное и первичное неподвижное, в то время как рожденное, даже если оно неизменно, выступает или как движимое иным (то есть феноменальной неподвижностью, располагающейся в движимом иным), или как самодвижное и находящееся в самодвижном феноменальное неподвижное. Тем не менее подлинное движимое иным есть феноменальное самодвижное, а подлинное самодвижное есть феноменальное неподвижное. В самом деле, чем еще могла бы быть сущность души, как не движущим и самодвижным; а разве будет она чем-то изначальным, коль скоро оказывается движущимся? Будучи одновременно движущим и движущимся, она не станет выступать как то, что в собственном смысле этого слова неподвижно, а то, что всего лишь неподвижно, разумеется, не является в то же самое время и движущимся. Действительно, «движущееся» — это обозначение чего-то рожденного, и потому самодвижное иначе толкуется как самородное163, так как оно возникает, причем благодаря самому себе, и именно этим отличается от движимого иным164. Самодвижное не подлинно; напротив, оно — нечто феноменальное и смешанное с движущимся, поскольку одновременно предстает и как самодвижное, и как движимое иным. Стало быть, подобно тому как самодвижное, пребывающее среди энергий одушевленных тел, возвело нас непосредственно к феноменальной сущностной самодвижно-сти, причем прежде всего к истинной, то, что пребывает во всегда тождественных и одинаковых изменениях, непосредственно возводит нас к своей собственной сущности, которая и есть феноменальная неподвижность165, и если она подобна неподвижному, то будет способствовать восхождению к подлинному и истинному первому неподвижному. Следовательно, если существует самодвижное, то прежде него имеется и неподвижное; и если есть множество самодвижных вещей, различающихся между собой по своему виду, то каждая из них равным образом будет возводить нас к собственному для нее неподвижному.
16.4. Множественность независимого ума
Но разве не мог бы кто-нибудь сказать, что, пожалуй, многие виды собраны в единое неподвижное, словно парадигмы в уме, и, стало быть, вслед за единым умом вовсе не идет множество тех, которые появились от него на свет? Похоже, что не все равно, говорить ли о солнечной части единого ума или о лунной и о солнечном уме или лунном, поскольку ведь и феноменальное неподвижное, связанное со всеобщей душой, не оказывается тем же, что и обособленное в какой-то ее части солнечное или лунное, и то же касается связанного со взятыми самими по себе солнечной или лунной душой. Ибо и принадлежащее мне феноменальное душевное неподвижное не выступает как тождественное предвосхищенному во всеобщей душе и причинствующему для моей души. Стало быть, если бы случилось так, что моя душа отличалась бы по виду от того ее предвосхищения, которое существует в Кроне166, при том, что она усматривается как часть тамошнего, а душа Крона не была бы той же самой, что и предвосхищенная во всеобщей душе Кронова душевная причина, то стало бы ясно, что это имеет место потому, что их феноменальные неподвижные будут различаться между собой по своему виду; таким образом, на подобном пути доказательства рассуждение будет возводить нас к различающимся по своему виду подлинно неподвижным вещам, выступающим в качестве причин. Стало быть, вовсе не одно и то же неподвижное будет появляться как следствие предвосхищения души Крона во всеобщей душе и благодаря самой Кроновой душе. Таким образом, от последней мы восходим к особенному Кроновому неподвижному уму, а от первой — к Кроновой части во всеобщем уме. Значит, за бытием многих самостоятельных душ, следующих за той, которая возникла от этой души, будет идти бытие многих самостоятельных умов, появившихся на свет после единого ума. Потому-то необходимо выяснить, будем ли мы выдвигать истинные предположения, основанные на всяком феноменальном неподвижном. Ведь при этом будет иметься и собственный для моей души самостоятельный ум. А почему бы, мог бы сказать кто-нибудь, коль скоро это имеет место применительно к каждому феноменальному самодвижному, и не существовать некой особенной и самостоятельной душе? Однако пусть это исследование будет у нас отложено.
16.5. Умы, выступающие в качестве предмета сопричастности
103. А сейчас давайте в дополнение исследуем вот какой вопрос. Выявляет ли рассуждение наличие не только множества умов как таковых, но и тех, которые сочетаются со многими душами — либо как с орудиями, либо как с вместилищами? Действительно, то, что было нами показано,— что феноменальное солнечное неподвижное оказывается самостоятельным солнечным умом, точно так же как всякое лунное — это, в свою очередь, лунный ум,— вполне очевидно. Если один ум есть частный солнечный, а другой — лунный, то один будет закладывать феноменальное неподвижное в лунную душу, а другой — в солнечную и в каждом случае тот или другой при посредстве той или другой души окажется дополнением к природным эйдосам — как обусловленный ими след или изображение неподвижного. Следовательно, один ум будет соединяться с душой Солнца в силу своего родства с ней, а другой — с лунной, и ясно, что каждый из них будет пользоваться соответствующей душой как орудием для достижения трех совершенств.
Стало быть, подобный путь доказательства приводит не ко многим умам, не допускающим участия в себе, как недавно еще казалось, а совсем наоборот — к допускающим такое участие. Ведь и от одушевленных тел мы в рассуждении совершили восхождение к душам, связанным с ними и выступающим для них как предмет сопричастности. Так разве не справедливо было бы, совершая восхождение от заложенных во что-то вещей, отнюдь не отрицать на их основании тех, которые их закладывают? Одушевленность привносят в природные эйдосы связанные с ними души, примыкающие непосредственно к ним, а разумность предоставляют душам сопряженные с ними, сходные и принадлежащие к одному с ними виду умы. Действительно, служащее предметом сопричастности приводит в соприкосновение с участвующим в нем как подобие собственных признаков, так и соответствие равных мер обособленности от всеобщих предметов.
16.6. Принцип сопричастности
А не получается ли, что не допускающее участия в себе есть единое, а многое всегда служит предметом сопричастности? Не иначе как сверхкосмические души философы познают прежде внутрикосмических, а что касается умов, то познание их как умных и не допускающих участия в себе осуществляется с связи со сверхкосмическими и допускающими сопричастность167. Каково же будет восхождение от низшего к тому, что не допускает участия в себе какого-либо множества? Пожалуй, пусть для него заранее будет предполагаться лишь вот что. Подобно тому как опирающаяся на ум божественность предвосхищает его своеобразие и сама оказывается единичным умом, так и ум, опирающийся на душу, будет предопределять ее своеобразие и сам выступит как умная душа, ибо он является умом по своей ипостаси, а душой — по своеобразию. Ведь подобная генада, первой главенствующая над всем этим, производит из себя идиому душевности и в соответствии с тем же самым рассуждением оказывается единичной душой, так как мы называем единичной сущностью именно бога, опирающегося на соответствующую ипостаси сущность, а единичной жизнью — опирающегося на жизнь. Таким образом, в согласии с природой, душа, опирающаяся на соответствующее живое существо, оказалась бы или общим природным и телесным эйдосом, или просто материальным, или же внутрикосмическим, а ей предшествовал бы ум; но превыше всего стоит генада. Без сомнения, низших богов мы называем внутрикосмическими, чувственно воспринимаемыми и, конечно же, некоторым образом материальными, причем, разумеется, не в том смысле, в каком о них, похоже, говорят философы168,— как об относящихся к своему виду на основании низших вместилищ169, ибо, по справедливости, ничто не может получать ни свою характеристику, ни имя на основании худшего,— напротив, такое положение связано с тем, что генады, всегда прежде всего остального производя из себя собственные признаки, допускают к участию в них и свои вместилища. Следовательно, первые боги обратились во внутрикосмических, материальных, чувственно воспринимаемых и телесных единичным образом, а вслед за ними и умы — умным, и следующие за умами души — самодвижным; на основании этого появился на свет и от этого родился подобный эйдос, причем, как мы говорим, не в качестве своеобразия, но уже в виде последней ипостаси, которую мы полагаем движимой иным, а потому — телом и чем-то, воспринимаемым ощущением. Ведь это-то и есть то самое, что в древности, еще до появления философии, подверглось обсуждению и рассмотрению,— то, что собственный признак, будучи благостью, берет свое начало от богов170. Ибо есть ли нечто, что не будет порождением бога и единого? Итак, пусть именно эти определения и будут положены нами в основу, поскольку они полезны и для настоящего, и для будущего исследования.
16.7. Переход к безучастному уму
Если на самом деле необходимо совершить восхождение от феноменального самодвижного к подлинному, то разве окажется вполне заслуживающим доверия то, что обладает собственным признаком инодвижности иным, даже если по своей ипостаси оно и самодвижно? Вероятно, таково лишь то, что самодвижно в обоих отношениях — и по своему своеобразию, и по ипостаси,— то, что является только самодвижным и ничем другим. Пожалуй, переход будет совершаться в двух направлениях, но в направлении допускающего участие в себе — более близкого (вследствие родства), а в направлении того, что такого участия не допускает,— более далекого (по причине большей истинности). Следовательно, в таком случае от феноменального неподвижного мы будем совершать восхождение, во-первых, к душевному уму, самодвижному лишь по своему своеобразию, а по ипостаси неподвижному, и, во-вторых, к совершенно неподвижному и подлинно таковому уму; последний-то и есть ум, не допускающий участия в себе171. Далее, ясно, что таково множество умов, так же как и множество душ. В самом деле, подобно тому как тех вещей, которые служат предметом сопричастности, много, в силу необходимости много и тех, которые участия в себе не допускают. Ибо каждое своеобразие, допускающее участие в себе, будет обладать собственной чистотой более истинным образом, когда находится в том, что ей родственно; последнее во всех отношениях таково, каким стремится быть то истинное, которое постигается на основании феноменального. В противном случае путь восхождения от всякого феноменального ведет к тому, что вовсе не допускает участия в себе. Ведь мы, исходя из человеческой души, конечно же, вовсе не будем достигать души, не допускающей участия в себе, каковая, скажем, у Платона оказывается сверхкосмической и не подпускающей к себе душой172, так же как не достигнем мы на основании демонического ума того, который не допускает сопричастности. Ибо всякий демон пребывает внутри космоса173, так что, рассматривая отдельного демона, мы не сможем высказать предположений даже о сверхкосмической душе. Ведь, в свой черед, не всякий внутрикосмический бог прежде был сверхкосмическим, и не всякий сверхкосмический изначально существовал как умной, поскольку, пожалуй, также не любой умной был ранее умопостигаемым. Сделав такое допущение, мы, разумеется, всегда будем представлять все вещи определенными и считать, что совокупное множество богов разделено непосредственно в умопостигаемом,— я говорю о том, что касается общих особенностей, так же как и о том, что имеет отношение к частным. Следовательно, высшие предметы вовсе не соответствуют по своему количеству тем низшим, которые сравниваются с ними, а по своему качеству они это достоинство превышают174. Таким образом, если бы кто-нибудь высказывал по поводу приведенного рассуждения недоумение и требовал бы определения того, на основании чего возможно восхождение к высшему, а на основании чего — нет, значит, в этом случае прежде всего имела бы место приведенная апория, которую мы, насколько это возможно, разрешим позднее.
104. Не высказываю ли я сейчас всего лишь то предположение, что рассуждение требует существования некоего множества, не допускающего участия в себе и предшествующего служащим предметом сопричастности душам и умам,— по той причине, что некое простое безучастное соприкасается со множеством допускающего участие в себе, и потому, что единое противоположно множеству точно так же, как и не допускающее участия в себе — служащему предметом сопричастности? в самом деле, в данном случае то, что не допускает участия в себе, но при этом оказывается множеством, будет занимать среднее положение. Если же имеется также первое, допускающее сопричастность, то оно предшествует собственному множеству, а значит, первое безучастное будет возглавлять соответствующее множество, ибо всякое однородное число существует благодаря собственной монаде.
16.8. Переход на основании принципа аналогии к жизни, сущности и объединенному
Следовательно, в таком случае и неподвижное мы разделим на три части. Действительно, коль скоро ум есть нечто разделенное и пребывающее в собственных очертаниях,— причем это касается как его самого, так и того, что содержится в нем,— и он, конечно же, не просто пребывает в рассеянии, но и сводится воедино, обладая бытием в раздельности, и, говоря более ясно, поскольку, будучи умом, он обладает жизнью, жизнь же некоторым образом является разумной, а не просто чистой жизнью,— так вот, с учетом всего этого прежде жизни, существующей в другом и смешанной с эйдетическим своеобразием другого, необходимо существовать и сверх эйдетической жизни — всего лишь жизни самостоятельной и обретающей сущность в одном лишь разделении, но вовсе не предполагающей окончательной раздельности. Однако поскольку и жизнь обладает сущностью, причем эта самая сущность оказывается жизненной, а не просто сущностью, и разделяющейся, а не просто объединенной, то прежде нее необходимо существовать подлинной сущности, всего лишь таковой, которая полностью объединена. И ясно, что в таком случае не только монады, но и множества определенным образом соотносятся между собой и что <гипотеза о> допускающем участие в себе множестве помогает в рассуждении не только тому, кто совершает восхождение от многих умов ко множеству служащих предметом сопричастности жизней, но и тому, кто переходит от них к безучастному множеству. То же самое относится и к сущностям, поскольку в данном случае также имеет силу вышеприведенное рассуждение.
Следовательно, и во всех остальных случаях можно было бы, пожалуй, сказать то же самое, и, значит, ничто не препятствует использованию того же самого необходимого рассуждения в связи с объединенным. Таким образом, многим вещам, допускающим участие в себе, будут предшествовать многие служащие предметом сопричастности генады; однако в качестве тех, которые превратились в сущности, они оказываются сущностными, а в виде тех, которые стали жизнями — жизненными, ибо и те, которые соединили с собой ум, выступают как разумные. Стало быть, прежде сущностных богов необходимо располагаться многим безучастным богам, а не только одному, так же как должен иметься и предшествующий многим единый простой бог175.
Кем же он будет? И что за безучастные боги следуют за ним? Да ведь необходимо, чтобы они были единичными и сущностными176, но, разумеется, не такими, каковыми мы именуем предшествующих единому и сущности нерасторжимых богов, объединенных в смысле «единого сущего» Платона. Ведь последние вовсе не будут генадами, поскольку те появляются лишь в качестве единого, противоположного сущему, причем в результате первой возникшей инаковости. Ибо, похоже, эта самая инаковость, обособив единое от сущности177, вынуждена была предпослать всему простое единое, а вслед за ним — многие безучастные гена-ды, за которыми идут допускающие участие в себе со стороны сущностей, жизней, умов, душ и природных телесных эйдосов. Однако Платон вслед за нерасторжимым единым сущим расположил два ряда: служащих предметом сопричастности генад и участвующих в них сущностей или, говоря в целом, ипостасей178. Вообще же, если верно утверждение, что от простого единого на свет появляются два множества, подобно тому как они возникают от простой сущности, простой жизни, простого ума и, если угодно, простой души: не допускающее участия в себе и допускающее (а почему бы так, по праву, и не сказать?),— то ясно, что и из простого объединенного появляются два множества объединенных предметов: одно — безучастное и не распространяющее свое влияние вместе с участвующим в нем даже на внутрикосмических живых существ, а другое — допускающее сопричастность, простирающуюся вплоть до них, подобно каждому из целых; таким образом и происходит выход объединенного вовне — в согласии с содержащимся в нем множеством того, что возникает вовне двойственным образом.
16.9. Эманация единого
А раз возможно, приходя по этому поводу в недоумение, делать сходные выводы и применительно к стоящему превыше объединенного единому, то, пожалуй, можно было бы высказывать те же самые сомнения и относительно него. В самом деле, разве тогда не существует собственного выхода за свои пределы для стоящего превыше объединенного единого, причем такого, который также превосходит объединенное: одного — безучастного и другого — допускающего участие в себе со стороны объединенного? Похоже, что в этом случае участвующее и позволяющее участвовать в себе еще не разделены, так же как не разде-
лены и допускающее сопричастность и не допускающее, а также многое и единое. Ведь эта природа была всего лишь единым, а второе начало именовалось многим в качестве единой природы — причины того, что уже как-то разделяется, в результате оказывающейся силой единого разделяющей и порождающей. Следовательно, по самому своему естеству она не допускает возникающих при каком-либо разделении выходов за пределы единого, так как стремится быть только единым, причем во всех отношениях именно им, как и чем-то, предшествующим всему, от которого появляется второе или третье.
Кроме того, там, где властвует всеединое, конечно же, не может быть никаких различий — ни одного; следовательно, одно вовсе не окажется простым единым, другое — безучастным, а третье — допускающим участие в себе. Ведь все это различно, а природа единого во всех отношениях неразличима179. Следовательно, она также никак не воспринимаема: ни при помощи образа, ни на основании аналогии с пребыванием, выходом за свои пределы и возращением или же с порождающим и порождаемым, ибо и это — некие различия.
Далее, поскольку она предшествует всему и является началом всего, то она не может, пожалуй, допускать к себе ничего из появившегося от нее на свет; значит, изначальная природа всего не может примириться ни с чем из этого. Данное утверждение касается всего, и в том числе того, что уже пребывает в некой раздельности. Стало быть, среди последнего никоим образом не обнаруживается, как мы говорим, не только бытия единым, но и бытия, ничем.
Помимо сказанного, если эта самая природа обладает бытием в обособленности от всего и является общим началом всего, то разве будет она общей, коль скоро оказывается особенной — как бы монадой для соответствующего ей безучастного множества? И разве окажется эта природа несопоставимой, раз она владеет допускающим сопричастность множеством, а все подобное сопоставимо с участвующим в нем?
105. Стоит ли прибегать к более пространным объяснениям по поводу первой причины, если она не обладает никакой иной общностью со всем остальным? Напротив, нужно отметить только то, что она от всего обособлена и является причиной всего, и то, что причина не обладает по сравнению с единым никакой определенностью.
16.10. Переход к правильному рассмотрению эманации объединенного
Однако почему бы объединенному не выйти за свои пределы в виде возникающего от него двойственного множества: безучастного и допускающего сопричастность? Мы скорее согласимся на безучастное — поскольку умопостигаемое является многим, так как при этом рассмотрении мы представляем его триадическим,— по крайней мере с тем, чтобы мне не утраивать эту триаду в эннеаду180. Так разве необходимо вслед за безучастным возникать тому, что допускает сопричастность?
Пожалуй, правильнее говорить, что на свет не появляется и безучастного. Ведь разделяющееся множество отвергает бытие не только единым, но и объединенным, в качестве целого приближающимся к единому, как бы оформляющимся в согласии с его природой и никогда и никоим образом не желающим существовать самостоятельно, ибо первое объединенное обладает своим бытием именно в едином. Стало быть, подобно тому как всякое первое в силу необходимости оказывается более всего истинным (ибо что могло бы существовать прежде него, сущего?), так и названное, в согласии с высшей истиной, является объединенным во всех отношениях. Следовательно, объединенное никогда и никоим образом не допускает разделения, а значит, и какого бы то ни было выхода за свои пределы. Ведь, что более всего справедливо, оно, пожалуй, будет таким, какими совершенно правильно считаются его кажущиеся стихии. Ибо, если на основании следующего за ним и происходящего от него рассуждать так, как это подобает объединенному, оно окажется простым единым сущим, стоящим впереди и единого, и сущего. Таким образом, если последнее совершает выходы за свои пределы, разве то, что, конечно же, не является ни тем, ни другим, но выступает как предшествующее им, не будет стоять выше необходимости выхода за свои пределы? А ведь эта самая необходимость и отделяет единое и сущее друг от друга, поскольку именно их разделение и возникло первым. Если же взглянуть на него сверху, с высоты двух начал, оно будет одновременно и единым, и многим — последним в смысле сопричастности, так как оно оказывается им как причина.
Однако единое и многое вовсе не выходят за свои пределы. В самом деле, это не относится ко многому, так как оно причинствует для выходов за свои пределы, но вовсе не совершает их, ибо оказывается многим отнюдь не наподобие единого, соотнесенного со множеством, а как собственно единое, причем в смысле его напряженности181. По этой самой причине и воспеваются его сила и воспроизводящая причинность. Ведь единое как таковое вовсе не выступает как причина всего, оно лишь предшествует всему. Итак, поскольку объединенное появляется на свет от двух начал, причем именно таких, значит, в той мере, в которой оно обладает чем-то от единого и в которой выказывает какие-то свойства многого, оно вовсе не остается единым, но вместо него становится объединенным, причем не каждым, самой своей каждостью обнаруживающим многость (это было второе начало), а тем, которое никоим образом не разделяется. Так разве это объединенное, являющееся вот именно таким, могло бы разделяться в каком-либо выходе за свои пределы — в самом ли себе или по причине самого себя, как безучастное или как допускающее участие в себе? Да с чего бы ему обладать подобными различиями, если в нем нет ничего такого, что установилось бы как самостоятельное? Нет, стало быть, ни различия, ни инаковости, ни разделения, ни выхода за свои пределы, ни слабости, ни превосходства, ни порождающего, ни порождаемого, ни чего-либо еще, каким бы то ни было образом обособившегося или обособляющегося в соотнесенности с другим, ни пребывающего в себе, ни тому подобного, определяющегося как-то иначе. Ведь природа объединенного поглотила все в одном лишь единстве всего, подобно тому как, если позволено так выразиться, само единое поглотило все в единой простоте всего182.
В том, что положение дел поистине таково, я совершенно убежден, и могучий Ямвлих неоднократно просто вынуждает многие наши мысли как бы сходиться в одном и том же центре, делать этим центром саму окружность и приближаться к объединенному и умопостигаемому так, как это им свойственно,— к единому и великому умозрению, нерасторжимому и умопостигаемому183. Поскольку, будучи людьми и в других отношениях прикованными к земле, подобного умозрения достигнуть нелегко, мы стремимся хоть как-нибудь созерцать тамошние предметы184, скрытые в высшей глубине и как бы слитые там; конечно же, в согласии с нашим замыслом, мы попытались постигнуть эту природу так, как это для нас возможно, но, пока не охватив ее в едином умозрении, о котором мы и говорили как о центре всех умозрений, мы разделили первую природу на две части в их нерасторжимом единстве, рассмотрев, с одной стороны, то, каким образом она является объединенной, а с другой — то, почему она множественна, несмотря на то что так поступать нельзя. В самом деле, никоим образом недопустимо, чтобы одно в ней было объединенным, а другое — множественным; напротив, в объединенном и то и другое совмещено. Впрочем, мы испытываем слабость к подобному способу мышления и именования, поскольку с точки зрения чего-то отличного от самого единого называем его множественным, а в качестве, в свою очередь, единого, обладающего свойствами, возвещаем о нем как об объединенном. Эта самая природа едина, но мы, будучи не в состоянии воспринять ее как таковую, мыслим ее как двойственную: либо как единое и не-единое, либо как то, что не является ни единым, ни не-единым, либо как единое и многое185.
106. Так что же, уж не высказываем ли мы относительно нее ложных суждений? Пожалуй, мы совершаем это в смысле раздельности, а утверждаем истину в связи с единством; однако мы пока не в состоянии непосредственно соприкоснуться с этой истиной.
16.11. Триадическое деление объединенного
Созерцая всяческие космосы, возникающие из подлинно сверхкосмической глубины186, мы именуем эту самую бездну тайным космосом, вобравшим в себя все другие и являющимся как бы космосом всех космосов или, вернее, их нерасторжимой родовой мукой, еще не вынашивающей космической идеи, но заведомо просто рождающей ее187. Действительно, если так позволено выразиться, результатом всеобщей причины оказывается предшествующая всему родовая мука — единая, общая, нерасторжимая, предшествующая любому возникающему благодаря ей всеобщему умопостигаемому потомству; вот об этом-то мы и говорим как об объединенном порубежье космосов, сколько бы их ни было, а также заключенных в них плером, и превыше всего — о единой и обособленной простоте.
Поскольку мы предположили, что сверхкосмическая глубина, имеющаяся на самом деле, существует именно в виде столь великого космоса, мы на основании данного понятия и определили принадлежащий нам самим порядок следования первого, промежуточного и последнего, при том, что там не существует никакого, а тем более такого, разделения. Ведь оно есть отнюдь не во всех космосах, следующих за тем, а, напротив, как утверждается в «Пармениде», появляется только в низшем чине умопостигаемо-умного — там, где возникает раздельность188.
Пусть и среди предшествующего существует усматриваемый как-то иначе тройственный выход за свои пределы — все равно в умопостигаемом ему проявить себя невозможно. Однако и в этом случае мне мыслится некая связанная с ним родовая мука, так называемое тамошнее тройственное деление, даже если есть нечто, скорее, похожее на единое, нежели родовая мука, например что-то семенное,— ибо семя, конечно же, неделимо более, чем родовая мука189,— или то, что потусторонне даже аналогии с семенем. Действительно, речь можно вести обо всем, что каким-то образом разделяется. При этом, желая постичь неопределенную и подлинно глубинную всеобъемлемость, мы в отношении ее разделились сами. Убоявшись этой разорванности наших мыслей, которая на самом деле оказывается ужасной и титанической (поскольку вовсе не ограничивается неким делимым на части умом190, но самым нечестивым и дерзким образом посягает на то, что полностью и во всех отношениях неделимо), мы охотно заменили ее триадой, подвергшись при этом опасности вновь скатиться к крайней расчлененности. Дабы спастись от этой опасности, мы дерзнули повести речь о тройственном членении умопостигаемого, желая тем самым прекратить наши собственные разделения, которые в большей мере собраны воедино быть не могут191 и при этом оказываются не в состоянии освободиться от созерцания умопостигаемого вследствие тоски по изначальным причинам всеобщей природы192.
16.12. Очищение наших собственных представлений об объединенном
Впрочем, очищая и по возможности постигая себя, мы пытаемся восходить туда, во-первых, опираясь вовсе не на случайные предметы, а на те, которые появляются там: на сущность, жизнь и ум, и, во-вторых, не на те их собственные признаки, которые относятся к раздельности, например на бытие составным или единичным, а на тот из них, который, будучи единым и предшествующим делению, идет впереди обоих названных. В самом деле, мы говорили, что простое объединенное предшествует единому и сущему и равным образом его своеобразие — это не составленность и не простота, а предшествующая той и другой объединенность. Действительно, при этом жизнь, которую мы называем умопостигаемой, будет объединенной и предшествующей как единичной, так и той, которая выступает как бы смешанной. Тогда умопостигаемый ум оказывается не единичным и не тем, который логически противостоит единичному, как вместилище противостоит вмещаемому или как сущностный и составной противостоит единичному и простому,— он предшествует им обоим, как предшествует самой раздельности. Потому-то и тот, и другой ум оказывается обособленным, поскольку один — единичный, а другой — сущностный. Действительно, пусть сущностью называется то более общее, которое, согласно Пармениду, противоположно монаде193. Ни тот, ни другой не есть просто ум — таков лишь простой умопостигаемый ум. Ведь он есть первый ум, из которого выделились и первый единичный, и первый сущностный; и тот, и другой, будучи первым, при этом тем не менее соотносится с чем-то, высший же ум является именно просто первым. Далее, в таком случае простая жизнь, пребывающая таковой в сравнении с обособленной в виде единичной или сущностной жизни, оказывается также первой жизнью; кроме того, и сущность, в том же самом смысле предшествующая той и другой как чему-то определенному, выступает просто как сущность. Ведь то, что в качестве составного стоит выше того и другого,— причем не только в отношении названного, но и того, что в нем содержится,— благодаря этому соединило в составном все разделяющееся: «Ибо это все, но умопостигаемым образом», как гласит оракул194.
Почему же подобное не разделяется аналогичным образом в отношении всего? Вероятно потому, что там все, в согласии с истиной, вовсе не распадается на перечисленные вещи, но пребывает в нерасторжимости; и если бы у него возникла бы необходимость как-то проявить себя, то скорее всего появились бы первые вещи. Они пребывают наготове, по крайней мере в смысле аналогии: все то, что наиболее родовито, просто, божественно и первично, достигает того, что выходит за пределы умопостигаемого195. Ведь первое не смогло бы, пожалуй, проявить себя, если бы и там оно как-то не выказало бы себя среди всего остального в некой родовой муке, и притом в отнюдь не значительной собственной раздельности,— ибо оно более всего объединено,— а в согласии со своим высшим и некоторым образом умопостигаемым совершенством, имеющим по этой самой причине достаточно сил, чтобы возникнуть вместе с умопостигаемым, проявить себя в нем и не оказаться помрачением его сияния или же слиться в его единстве, поскольку и эти вещи обретают сущность в состоянии, близком к объединенности, вследствие подобия, связующего с умопостигаемым то, что не обладает благодаря ему какими-либо свойствами.
Вслед за описанными выше мы прибегаем к третьему очищению196мыслей , созерцая тамошние сущность, жизнь и ум, при том, что вовсе не создается впечатления, будто они связаны с раздельностью, подразумевающейся в этих именах,— напротив, они согласуются с единой природой объединенного, направляющегося только к самому себе и лишь кажущегося ослабленным. Ведь единое сущее, как установил Парменид, повсюду принадлежит самому себе и во всем является умопостигаемым и нерасторжимым197. Все — из первого, промежуточного и последнего предела одной и той же природы — соединено как бы в нерасторжимом Всем, как это имеет место в том случае, когда некто узрел в природе, заключенной в положенном в основу теле, обособленное, необособленное и то, что находится между ними, и при этом все равно согласен, что эта природа едина. В самом деле, подобный ум, пожалуй, будет называться умопостигаемым вовсе не потому, что он мыслит, а потому, что он выступает как причина мыслящего ума. Действительно, даже если он мыслит, то его мышление выступает как бы в качестве причины198, и то же самое относится к жизни: в низшем она присутствует полностью, и одна соответствует ипостаси — и это составная, а другая, предвосхищенная, есть своеобразие — и это единичная; тем не менее умопостигаемая жизнь не имеет отношения ни к той, ни к другой (ибо она идет впереди них обеих), она — как бы их родовая мука. Точно так же и в отношении сущности необходимо сказать, что там в качестве причины родовой муки или единства она пребывает в нерасторжимости, при том, что существует изначально. Следовательно, данное деление есть отражение деления того, что родилось оттуда; наличное же бытие умопостигаемого — это объединенное, нерасторжимое, и если есть что-то такое, то Все. Впрочем, мы скажем об этом чуть позднее.
16.13. Простое многое в умопостигаемом
107. Однако давайте вернемся к тому, что было сказано с самого начала,— что умопостигаемое, пожалуй, не могло бы участвовать в возникновении при своем выходе вовне, поскольку этого, конечно же, не происходит даже и во внутреннем выходе за свои пределы; таким образом, оно, в согласии со своей природой, не созидает ни множества, допускающего участие в себе, ни безучастного, которое является однородным и нерасторжимым. Таким образом, внутреннее множество вовсе не есть множество видов, частей или стихий, как, разумеется, не является оно и множеством чего-то определенного; это — множество как таковое, и оно отнюдь не тождественно состоящему из разделенных или образующихся из каких-либо простых вещей предметов, так же как и не то, которое состоит из таких вот определенных предметов,— оно составляется из вещей объединенных и принадлежащих к вышеназванному роду беспредельного, многого и хаотичного. Потому-то в «Пармениде» и было сказано, что это беспредельное множество, как если бы о его едином эйдосе < Платон > говорил, что он есть единое, ограниченное пределом199. Действительно, оно отлично как от первого начала, будучи вместо единого объединенным, так и от второго, будучи вместо беспредельности беспредельным, а вместо множественности — единым эйдосом, ставшим при этом множеством. В самом деле, точно так же, как объединенное произошло от единого, множественное возникло от простого многого. Единое и многое слиты в нем в одну совокупную природу, состоящую из двух начал и вобравшую в себя всякий выход за свои пределы того, что появилось вслед за ним и от него, каковое, в согласии с наиболее общим разделением этих вещей, в первую очередь и явило сущность, жизнь и ум; желая узреть тамошнее слияние, мы видим вместо него происходящую оттуда раздельность. Таким образом, необходимо не останавливаться на ней, а неудержимо стремиться вперед200, полагая тамошнее не умом, а как бы умом, не жизнью, а как бы жизнью, не сущностью, а как бы сущностью, и, вообще, не выходом за свои пределы, а как бы выходом за свои пределы.
16.14. Умопостигаемое как изначальная единичность всего
Далее, самое правильное — это говорить о том, что в едином воображаемом выходе за свои пределы следует соединять внешний и внутренний выходы, не тождественные между собой. В самом деле, умопостигаемое и объединенное как единая природа есть монада — если только подобает называть так не поддающееся описанию единство умопостигаемого,— а кроме того, и космос — если только стоит именовать космосом объединенную и подлинно сверхкосмическую глубину201. Действительно, первая сущность вовсе не является иной по сравнению с отделяющимся от нее множеством, как это имеет место по отношению к уму, жизни и сущности202. Составное называется сущностным космосом и единой жизнью, и при этом многие жизни следуют за единой; космосом же оказываются многие жизни наряду с единой. То же самое относится и к уму: один ум — первый, а другие — отделившиеся от него. В качестве умного космоса выступают одновременно единый и многие; что же касается наименьшего и объединенного, то оно вовсе не находится в таком же положении,— напротив, оно заключено в виде семени в самом себе и не расчленяется на монаду и число203, поскольку образует первую и второе как одно и то же; в этом случае они, пожалуй, будут тождественными и космос одновременно окажется всем и целым, а вовсе не разделенным на целый и весь,— напротив, такие его состояния будут пребывать в единстве; при этом тождественным и единым станет то, что кажется внутренним и внешним множеством: так как внутреннее множество связано с монадой, оно тождественно внешнему, поскольку там монада и космос — одно и то же. В таком случае виды, части и стихии также тождественны, ибо целое, все и слияние стихий — это одно и то же.
Ведь ничто из этого там не определено, как не определено и ничто другое,— напротив, имеется только единое сущее, которое и есть объединенное. Там, где единое и сущее пребывают в нерасторжимости, существуют лишь одно имя и желательное его свидетельство (δήλωμα βουλόμενον)204; <Платон> говорит, что там, где они разделяются, единое и сущее оказываются, по крайней мере, частями; там же, где они пребывают в раздельности, возникает бесконечное множество, даже если единое всегда соседствует с сущим205. Ведь раз деление объединенного в его собственных пределах совершается в виде неких единств; таким образом, разделение, вовсе даже не распространившееся на объединенное, не могло бы ослабить его природу, но, предприняв такую попытку, оно, по сути, отвергло бы самое себя, оказавшись вовсе и не разделением,— ибо оно привело бы скорее к объединению, нежели к разделению, а вернее, по большей части объединило бы, но вовсе не разделило206. По крайней мере, фрагменты (κέρματα) объединенного сами были представлены как объединенные, так что оказались вовсе и не фрагментами, а значит, не было и разделения, которое в умопостигаемом не привело ни к какому иному результату, кроме укрепления единства. В самом деле, даже то, что оно, казалось бы, отделило, оно вновь свело к тому же самому единству, и это подобно тому, как если бы тот, кто пожелал бы разделить сам эйдос золота, обнаружил, что отдельные части в ничуть не меньшей степени опять-таки оказываются золотом207. В этом случае произошло изменение лишь количества, а не самого золота как эйдоса; в применении же к объединенному подобное касается лишь его самого, ибо количества там нет, как нет и ничего иного по сравнению с его собственной природой.
Тем не менее очевидно, что Платон, пожелав показать, что оно неделимо, высказал гипотезу о разделении и обнаружил ее бессмысленность, а вернее, такое ее свойство, что, произведя некое великое действие, она тем самым лишь наглядно представила нерасторжимость объединенного, сохраняющуюся равным образом вплоть до самого низшего, где, казалось бы, в первую очередь и наблюдается раздельность; на основании изначально высказанного предположения о разделении или же о наглядном представлении, он установил, что данная гипотеза является ложной208. Таким образом, необходимо вести речь о том, что кажущиеся фрагменты объединенного — это не виды, а как бы виды, и не подлинные части, а как бы части. Стало быть, тем самым <Платон> очевидным образом направил нас на верный путь, расположив вторые целое и части где-то в самом низу, вслед за умопостигаемым и после числа, совершенно ясно показав, что такое высшие части и целое. Речь о них идет в каком-то ином смысле, а что касается предшествующего числу множества, то он предположил, что оно существует в объединенном, причем, очевидно, прежде всякой раздельности, поскольку он мыслит его нерасторжимым. Следовательно, такое множество вовсе не слагается из чего-то, как не является оно и непрерывным, так как непрерывность следует за разграниченностью. Значит, обсуждаемое множество является объединенным, а вовсе не распадающимся на первичные множества; напротив, как я много раз говорил, это множество именно беспредельное и хаотичное. Стало быть, в таком же положении там находятся и стихии, являющиеся как бы всеми числами, отделяющимися от собственных монад и как бы стихиями, ибо они никак не определены на основании частных различий стихий, так же как и не смешаны между собой, а объединены прежде всякой раздельности; таким образом, ширина и глубина, как можно сказать в согласии с действительностью и истиной, там вовсе не расторгнуты; что же касается возможности и аналогии, то в этом смысле пусть ширина и глубина будут соединены на равных основаниях, причем вовсе не в их смешении, а в полном единстве.
Итак, имеет место именно то, о чем я только что говорил,— внутреннее и внешнее множества в умопостигаемом представляются одним и тем же. Стало быть, подобно тому как никакой ум не мог бы появиться вне умного устроения вообще, поскольку всякий ум будет содержаться только в нем, и подобно тому как нет никакой души вне душевного, ибо и она могла бы располагаться лишь в собственном устроении, точно так же и умопостигаемого не могло бы быть за пределами умопостигаемого устроения. Поэтому отнюдь не получается так, что одно умопостигаемое допускает участие в себе, а другое — нет, ибо они слиты между собой, будучи двумя множествами, сведенными к простому единому и объединенному, в некотором смысле называемому множеством. Ведь одно и то же и населяет все, и от всего обособлено, поскольку оно не противостоит безучастному как допускающее участие в себе, а, напротив, располагаясь превыше всякого противопоставления, обладает совокупной силой и предшествует тому и другому как нечто тождественное — одновременно и допускающее участие в себе, и не допускающее. Действительно, в той мере, в какой оно превыше того, что допускает участие в себе, оно представляется безучастным, а в той, в какой лишено этого качества, кажется допускающим такое участие; впрочем, о сопричастности речь пойдет ниже.
16.15. Безучастное множество и противоположность единого и сущности
108. А сейчас давайте применительно к простому единому — я имею в виду то, которое обособлено от сущности вставшей между ними инаковостью209,— вновь проведем исследование вот чего. Если необходимо сообразовываться с ним, то возникающее от него множество будет безучастным, ибо предметом сопричастности оказываются многие генады, от которых в более общем смысле зависят так называемые многие сущности. Они оказываются всеми теми фрагментами сущности, о которых Парменид говорит применительно к единому210. Прежде этого множества, мог бы сказать кто-нибудь, необходимо существовать и другому, безучастному множеству — простому единому, предшествующему множеству. Ведь если есть много генад, то необходимо, чтобы имелась и одна простая генада, предшествующая многим, ибо объединенное есть не только генада, но и сущность, даже если оно предшествует им обоим. Что же касается того единого, которое называется потусторонним объединенному, то оно — единое в том же смысле, в котором то — объединенное, поскольку оно — начало и генад, и всяческих сущностей. Мы исследуем простое единое, возглавляющее одни лишь генады, подобно тому как рассматриваем простую сущность, идущую впереди сущностей, и точно такую же жизнь, являющуюся первым началом всех жизней, а также простой ум — монаду среди многих умов, поскольку даже если имеются сущностная, жизненная и умная генады, то одно оказывается собственным для каждой из них, а другое — общим. Так вот, по этой-то причине единое и является общим для всех них или же происходит от общей для них причины. Именно такое простое единое по необходимости и будет иметься в виду.
Далее, простая душа зависит от некоего ума, причем не от простого, простой ум — от какой-то жизни, притом не от простой, и, стало быть, простая жизнь — от сущности, причем вовсе не от первой211. Следовательно, простая сущность связана с какой-то генадой, но отнюдь не появляется как вместилище простой генады. Прежде определенной генады необходимо существовать просто генаде, ибо простое никогда не допускает сопричастности, а допускающее ее никогда не является простым. Если же объединенное в качестве разделяющегося созидает две вещи, то это должны быть простое сущее и простое единое или же нечто как одно и другое вместе, поскольку они в своем единстве занимают равное положение. Если мы утверждаем, что единое является простым, то, конечно, потому, что и <сущее> будет рождаться как простое. Так вот, данное обоснование этой гипотезы выглядит убедительным, однако я полагаю, что в действительности все обстоит совсем иначе. В самом деле, вполне допустимо и противоположное предположение. О если бы бог, посочувствовав нам, направил бы порыв нашего разума к самой истине!
Так вот, в первую очередь лучше всего рискнуть высказать мнение, сходное с воззрениями Платона, расположившего непосредственно после единого сущего единое и сущность, взаимно противоположные друг Другу, в виде двух рядов предметов212. Впрочем, простое единое, пожалуй, логически противостоит простой сущности, даже если какое-то единое и сопряжено с ней; однако <Платон> утверждает, что сущность столь же раздроблена, сколь и единое213. Вслед за этим мы предпошлем простое единое простой сущности. Далее, то самое безучастное сопряженное множество не будет включать равные части как сущности, так и единого. Важнейшее свидетельство этого — то, что в самом начале второй гипотезы высказывается предположение, что в объединенном <сущее> участвует в едином, и точно так же единое — в сущем214. Если в объединенном они, похоже, взаимно участвуют друг в друге, то, разумеется, потому, что и в раздельности наблюдается такая же сопричастность, поскольку говорится, что единое сущностно, а сущее единовидно. Итак, то, что вышеприведенное суждение несовместимо с мнением Платона, на основании сказанного вполне очевидно.
Давайте же попытаемся, исходя из самих соответствующих предметов, выступить в защиту противоположного суждения. Так вот, прежде всего где, как мы будем полагать, находится простое единое? Ведь оно не пребывает ни в умопостигаемом, поскольку последнее-то и было объединенным, ни в умопостигаемо-умном, так как здесь, согласно Сократу в «Федре», располагается подлинная сущность215. По этой самой причине, как мне часто кажется, <Платон> подчеркивает это, говоря не просто о сущности, а именно о подлинной, и при этом указывая, что такая сущность логически противостоит единому216. Однако кто-нибудь мог бы, пожалуй, сказать, что, подобно тому как и умное, и душевное устроение наряду с простым объемлет то и другое множество — допускающее сопричастность и безучастное, так и умопостигаемо-умное в своем высшем чине будет сочетаться с простым и не допускающим участия в себе множеством. Тем не менее мы не в состоянии высказать предположение относительно многих богов, предшествующих инаковости; последняя вместе с генадой произвела на свет сущность. Если эта самая инаковость будет безучастной и предшествующей той, которая допускает сопричастность, то она, владея не допускающим участия в себе множеством, соберет в себе великое множество богов прежде какой-либо сущности. Если же имеется не только простое единое, но мы будем противопоставлять ему простое многое, то возникнет также безучастный выход за свои пределы этого многого — как бы в виде многих множественностей, следующих за единой. А разве нет необходимости в противопоставлении простому единому простого многого? Пусть даже это многое будет как бы силой или плодовитостью единого, все равно то, что находится в нем, будет располагаться уже отдельно, так что многое есть какая-то иная, например многокачественная, генада. Кроме того, самое правильное — это утверждать, что сама воспетая инаковость будет началом, противоположным единому; впрочем, она противостоит и сущности, ибо имеются три явленные монады: единое, инаковость и сущность.
109. Впрочем, такое обсуждение отнюдь не является побочным делом на пути разума, стремящегося к точности,— с той лишь поправкой, что рассуждение будет требовать появления множества богов — допускающих сопричастность и не допускающих — и от единого, и от множественности, коль скоро последняя на самом деле оказывается простым многим. А почему бы ей и не быть им, если существует простое единое? И каким образом единое порождает множество вовне, если даже и в самом себе оно не имеет ничего множественного, поскольку представляет собой именно простое единое? Однако, как было показано выше, многое вовсе не определено в самом себе, но является единым и при этом обладает качеством множественности. Если же кто-нибудь утверждает, будто многое — это принадлежность единого, подобно тому как стихии оказываются принадлежностью того, что состоит из них, то в таком случае ведь единое вовсе не будет совершать рождение как многое. В самом деле, оба они неопределенны, немножественны и не способны к выходу за свои пределы как внутри себя, так и вовне, поскольку утверждается, что единовидный выход за свои пределы — результат собственного множества.
16.16. Простая сущность и простое единое
Кроме того, одна сущность является составной, а другая простой, и последняя — это единичная сущность, а первая — та, которая каким-то образом объединена в некоем подобии слияния. Если же обе они есть сущности, то какая именно сущность будет и той и другой? Стало быть, простой сущностью оказывается та сложная, которая предшествует им обеим. Равным образом простой жизнью является объединенная жизнь, и то же самое относится к уму. А разве не будет одна душа единичной, а другая — сущностной, и какая-то — той и другой? И разве не относится то же самое к телу: одно — это единичное, которое созидает внутрикосмического бога217, а другое — сущностное, в предвосхищении своего телесного своеобразия зависящее от так называемого телесного единого?218 Что же это за тело, то и другое вместе, которое принадлежит воздушным существам, коль скоро их простая ипостась изначально существует в умопостигаемом в качестве того сложного, которое предшествует им обоим?219 Пожалуй, в этом нет ничего удивительного, ибо умопостигаемое есть все, но умопостигаемым образом, то есть в едином единстве. Потому-то, как говорят философы220, умопостигаемое и является простой сущностью. Подобно тому как все рождается от простого и предшествующего всему единого, так и она разворачивается начиная с умопостигаемого. Следовательно, единое и то, в чем оно содержится, повсеместны, и само единое есть определенное одно или другое, как и соответствующие то и другое вместе — сложное в простоте.
Если это было сказано прекрасно, значит, простое сущее и есть объединенное, которое оказывается также всесущим, простое же единое располагается над объединенным, ибо в его основе лежит само всеединое. За простым единым и простым сущим следуют генады и сущности, обособленные и выстроенные в свой черед в определенном порядке как несущее и несомое или же причастное и служащее предметом сопричастности; в высшем и в объединенном они пребывали в нерасторжимости. Так что же, простое единое — это как бы монада по отношению ко многим низшим генадам, а простое сущее таково по отношению к сущностям? Однако не было ли и то и другое вместе взятое причинствующим для всего, а не единое — только для генад, и сущее — для одних сущностей? Ведь мы будем испытывать нужду и в иной сущности — той, что является общей для всего. Похоже, что простое единое ни по его ипостаси, ни по своеобразию нельзя считать сущим, и точно так же простое сущее нельзя считать единым в тех же смыслах,— напротив, пусть одно будет единым, а другое — сущим лишь во всеобщем наличном бытии. Потому-то, по справедливости, необходимо одно воспеть как простое единое, а другое — как простое сущее. Вот каково то простое единое, на которое прежде многих генад обращаются наши мысли. Вот каково, конечно же, то простое сущее, которое, как мы полагаем, идет впереди всякого сущего. Появившаяся вслед за ними инаковость разлучила их и создала вслед за простым нечто вот такое и какое-то, не принадлежащее к их природе, но оказывающееся как бы ее изображением. В самом деле, то, что служит предметом сопричастности, сверхсущностно, причем стоит превыше именно участвующей в нем сущности, в согласии со своей ипостасью, логически противоположной единичной сущности, связанной лишь со своеобразием. Сверхсущностно и объединенное, но оно стоит превыше обеих сущностей, соответствующих своеобразию и ипостаси. Сверхсущностно также единое и соответствующее ему многое — два начала, но они превосходят простую сущность, идущую впереди и той и другой. По этой самой причине простое единое есть и простое сверхсущностное. Но ведь если говорить о едином, то одно как бы превышает смешанное объединенное, которое мы по его ипостаси и называем сущностью, а другое как бы опережает то и другое смешанное,— и это то, которое предвосхитила сущностная генада в качестве как ипостаси, так и своеобразия, ибо то самое единое предшествует и той и другому, при том, что имеется и всеединое, сопряженное с сопричастным и смешанным скорее всего единственным и простым способом. Ведь оно не простое в смысле соотнесенности с другим ему составным, как, впрочем, и не составное по своему своеобразию: оно — то простое и несоставное, которое предшествует и тому и другому. Единым оказывается в первую очередь единое начало всего, поскольку оно стоит выше даже того объединенного, которое в сложном предшествует обеим его частям, в то время как именно такое объединенное изначально и в наибольшей степени является таковым, второе же — это то смешанное, которое таково по своему своеобразию, а третье — по ипостаси221, и о последнем-то прежде всего и необходимо говорить как о составленном из стихий, коль скоро в качестве собственно объединенного выступает идущее впереди него единичное смешанное; именно от него зависит то подобие целого, которое следует за ним, а также идущая вслед за ним монада. Ибо участвующее всегда соименно тому, в чем оно принимает участие, причем в согласии с каждым присущим ему своеобразием.
110. Далее, если бы было нужно, набравшись храбрости, объявить свое мнение — с целью как более детального наглядного представления того, что мы говорим относительно природы и аналогии, а также удовлетворения нашего на самом деле суетного мышления,— я бы сказал, что безучастное множество произрастает как родственное самому простому единому и первой причине всего и что ему в наибольшей степени подобен умопостигаемый род богов, пребывающий в единстве того единого и по этой причине объединенный как с самим собой, так и с ним и позволяющий нам воспринять таинственное устроение; боги воспели его как нерасторжимое, упорядоченное, сверхкосмическое и превосходящее всякое космическое благоустройство222. Что же касается допускающего участие в себе множества, то оно ничего подобного вовсе не порождает. В самом деле, хотя вот это чувственно воспринимаемое небо и производит на свет поднебесный космос, оно порождает при этом вовсе не безучастное множество богов, но лишь допускающее участие в себе и подлунное, ибо оно само как порождающее служит предметом сопричастности. Таким образом, соответствующее первое начало, производя на свет все, с одной стороны, совершает именно это, а с другой — лишь ставит в зависимость от себя не допускающее сопричастности племя богов, собрав их природу в едином единстве. С другой же точки зрения, у того начала, которое совершенно обособлено от всего и, конечно же, владеет произрастающим множеством, причем как безучастным, так и допускающим участие в себе, необходимо было иметься умопостигаемому началу, с которым сопряжено лишь единое и безучастное множество, каковым, как мы утверждаем, является род умопостигаемых богов. Ведь умопостигаемое — это единое, но при этом рассматриваемое как тройственное: само в себе оно пребывает как единое, а за свои пределы как в самом себе, так и из самого себя в некотором смысле выходит в качестве триады; его триада в данном случае — не раздельность его сущностей, а всего лишь наглядное представление множества — того, сколь великим и каким именно оно пребывает в умопостигаемом в виде объединенного.
Вторая часть
РАССМОТРЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
ТЕОЛОГИЙ
1. Халдейская триадическая теология
111. После того как мы с большим трудом довели до конца это рассуждение, давайте исследуем гипотезы древних теологов и то, как можно было бы их осмыслить при помощи тех философских понятий, которые были изложены. Так вот, по общему согласию, конечно же, первой среди всех и наиболее мистической является халдейская теология. При этом на первый взгляд кажется, будто она противоречит всем нашим предположениям, причем в особенности тем, которые высказываются относительно единого и смысл которых состоит в том, чтобы собрать умопостигаемое в единое единство.
В самом деле, теурги сообщают нам о трех существующих там триадах, о которых было поведано самими богами223. При этом как египтяне, так и финикийцы также прослеживают в умопостигаемом многочисленное племя богов, о чем мы расскажем немного позднее. И что же, разве божественный Орфей не принял за основу множество богов — начиная с Хроноса и заканчивая первородным Фанетом?224Разве сам весьма почитаемый нами философ Платон не сделал три логических вывода относительно единого сущего, иными словами — разве он не сообщил о трех умопостигаемых божественных чинах, различающихся между собой?225 Таким образом, необходимо исследовать, что же имели в виду в этом случае боги и близкие к ним мужи226, когда заповедовали подобное.
1.1. Интерпретация Прокла
Почему, например, боги сообщили теургам об умопостигаемых триадах? Так вот — как с известной долей хитроумия рассуждают новейшие философы227,— каждая триада включает в себя три момента: высший есть предел, низший — сущность, жизнь или ум228, промежуточный же — беспредельное; таким образом, на триаду приходятся две генады и лишь одна сущностная и составная монада триады.
Однако прежде всего удивительно то, что предметом сопричастности служат две генады, а участвующее — единая сущность двух генад. Кроме того, почему предел есть генада и беспредельное, в свою очередь, также генада, но иная: последняя — это сила, а первая — отец; третье же — отеческий ум229 — вовсе не является третьей генадой? В самом деле, необходимо было бы, чтобы и ум брал свое начало от генады, точно так же, как жизнь и скорее всего сущность. Без сомнения, в умном единичный ум они ставят выше, чем сущностный; стало быть, гораздо правильнее было бы и в отношении умопостигаемого сделать то же самое. Напротив, теологи, к которым те прибегают в поисках заступничества, поведали нам вовсе не о вместилищах, так же как и не о том, что появилось на свет благодаря богам, а о племенах и чинах самих богов. Итак, если племена и чины богов, как мы слышим от них самих, возвещающих это, бывают умопостигаем <о-умными> и умными, а также сверхкосмическими и внутрикосмическими, то почему же тогда мы считаем возможным путать то, что происходит от богов, с самими богами? И почему, если они высказываются относительно отца или силы, мы воспринимаем их как генады, а если говорят об отеческом уме, мы сбиваемся на другой род? Да и что же мы станем делать, если об отеческом уме будет сказа-но, что он производит на свет триадические устроения, ворожеи, хранителей и телетархов, а также тройственные умные и все космические деления? Разве не станем мы в этом случае производить генады от смешанного и составного ума и не создадим тем самым нечто отличающееся? Подобное имеет место, когда кто-нибудь предполагает зависимость душ от тел или же умов — от душ; однако в данном случае и сами мы будем иметь в виду ворожей, хранителей и всех остальных богов вовсе не как единичных, а как сущностных. Впрочем, здесь мы вступим в противоречие и с собой, и с богами. Если же, согласно Орфею, первородный бог, несущий семя всех богов, первым выпрыгнул и выскочил из яйца231, то какая же премудрость в том, чтобы считать яйцо сущим и при этом воспевать «выскочившего» за пределы сущего первородного бога? Разве есть хоть какой-нибудь смысл в предположении двойственности сущности и жизни или, по крайней мере, ума и души: не допускающих участия в себе и допускающих его, и при этом считать, будто все генады допускают такое участие, несмотря на то что безучастное скорее всего стоило бы располагать среди них?
1.2. Первая интерпретация Дамаския
Однако в таком случае мы будем вести речь вовсе не о триадах — напротив, каждая триада окажется состоящей из трех генад, в зависимость от последней из которых мы поставим сущность, как иногда делал наш собственный вождь232, и эти положения окажутся у нас с ним общими, так как каждая триада является только единичной, и две генады, предшествующие третьей, не допускают участия в себе, а та, в свою очередь, в каждой триаде такое участие допускает. Так чего же большего требовать в этом случае?
[1] Вероятно, прежде всего того, чтобы первая триада как целое шла впереди второй как целого. Следовательно, безучастное множество окажется расторгнутым, а вовсе не непрерывным в самом себе, как это имеет место применительно ко всем остальным. Ведь мы не могли бы, пожалуй, отыскать душу допускающих участие в себе предметов среди того, что такого участия не допускает, как и внутрикосмическое среди сверхкосмического, и точно так же допускающий участие в себе ум вовсе не располагается среди безучастного, как не находится и сверхкосмическое среди умного. Так почему же вслед за третьей ге-надой первой триады, которая допускает участие в себе, будет идти первая генада второй? В самом деле, за триадой в целом следует также триада в целом — вторая за первой и точно так же — третья за второй .
[2] Одновременно будет расторгнуто и сущностное умопостигаемое: оно уже не станет как целое соотноситься с самим собой как целым, при том, что тяготеет к самому себе и объединено с собой, и тем более то же самое произойдет в случае, если мы соберем воедино не следующие друг за другом генады, а те, которые разлучены между собой не допускающими участия в себе.
[3] Почему мы образуем триаду из трех разнородных монад, отчасти не допускающих участия в себе, а отчасти допускающих? Это подобно тому, как если бы кто-нибудь образовывал некую единую совокупность сверхкосмических, а также некоторых внутрикосмиче-ских богов, или властительных и архангельских, или тех же, а также азональных.
[4] К тому же, поскольку <один> космос <образует род богов, допускающих участие в себе, а другой —> безучастных, как это имеет место и в применении к душам и умам234, ясно, что те из них, которые не допускают участия в себе, будут образовывать одно устроение, а допускающие его — другое. Какое же из них умопостигаемое? Не безучастное ли? Но тогда чем будет число, допускающее участие в себе? В самом деле, то число, которое следует за умопостигаемым, связано, как мы говорим, и с сущностью, и с умом; похоже, что умопостигаемое — это то, которое допускает участие в себе. А чем в таком случае будет предшествующее и не допускающее участия в себе? В самом деле, первым космосом, как мы утверждаем, является умопостигаемый; если же он оказывается составным, то почему бы и всем остальным космосам — умопостигаемо-умному, умному, сверхкосмическому и внутрикосмическому — также не существовать в виде составного множества?
[5] Далее, если и в генаде, и в зависящей от ней сущности присутствует одно и то же своеобразие, то и первая, и, следовательно, вторая есть отеческий ум. Действительно, если генада входит в состав триады в согласии с этим своеобразием, то ясно, что сущность созидает ту же самую триаду в согласии с тем же самым своеобразием, ибо и во всех остальных космосах сущностное выстраивается аналогично единичному. А почему две монады в триаде оказываются простыми, а третья — двойственной: одновременно и генадой, и сущностью?
[6] Кроме того, если отеческий ум — это генада, а от него зависит какая-то сущность, причем вследствие инаковости они обособлены друг от друга, то разве не очевидно, что, если образованное из них объединенное займет свое положение в середине триады, оно расторгнет ее?235 Скорее всего, оно будет предшествовать триаде — я имею в виду первую триаду. В таком случае мы будем выстраивать триады вовсе не вслед за единым началом, как того хотят сами эти люди, привлекая в свидетели оракулы236, причем хотят этого не только позднейшие философы237, но и Ямвлих с Порфирием238. Прежде этих триад появятся другие, образовавшиеся в согласии с объединенным, и об этом мы поговорим позднее.
1.3. Вторая интерпретация Дамаския
Итак, самое правильное — это, отказавшись от приведенной гипотезы, придерживаться скорее той, что третье не есть ни единое, ни сущее, ни единое вместе с сопряженным с ним сущим, но что оно оказывается предшествующим и тому и другому объединенным, выступающим в качестве отеческого ума или, если угодно, у Платона — в качестве смешанного239, которое оказывается при этом умопостигаемым и сверхсущностным. Опять-таки, если угодно, именно оно, подобно «сущему» философов240, по отношению к единому является неопределенным и рассматривается как предшествующее двум. В самом деле, оно, как мы и говорили, простая сущность, а смешанное, пожалуй, происходит от предшествующих двух начал. Ибо объединенное — это и единое, и не-единое, причем в той мере, в какой оно есть не-единое, оно множественно. Следовательно, одно в нем появляется от второго начала а другое — объединенность — от первого. Таким образом, появившись на свет одновременно и от одного, и от другого, оно оказывается составным и смешанным. Однако поскольку эти начала не определены в отношении друг друга, но стоят выше того, что возникло во всяческой определенности,— ибо путь определенности и раздельности связан со вторым началом, но не следует непосредственно за ним,— и поскольку объединенное само по себе и по отношению к этим началам было неопределенным (ведь если оно объединено, то вовсе не разделено),— так вот, разве оказывается по этой причине оно не сложным, не смешанным или не состоящим из стихий? Скорее всего, состоящим из стихий его считать необходимо, но разве что в силу аналогии и ради некой ясности и наглядности, обращенных на то, чтобы хоть как-нибудь, пусть неотчетливо, но воспринять безыскусную и подлинно сверхъестественную истину. Однако существует и просто объединенное, простое во всех отношениях, ибо в его основе, с одной стороны, лежит единое как сама отстраненность от всего, а с другой — многое как все, принадлежащее единому; с третьей же стороны, имеется объединенное, которое можно было бы, по справедливости, именовать и мыслить первым единовсем, как будто доселе было единое, а затем оно распространилось вширь в собственной беспредельности, словно своего рода хаос241. В самом деле, сперва существовали лишь предел и эфир всего, далее одновременно и как ограниченное пределом и как беспредельное в единой простоте образовались хаос и единое242, затем в связи с этой природой вместо невоспринимаемых начал возникло качественно определенное и обладающее объемом единое. Это-то третье единое мы впервые называем объединенным уже вслед за вторым243, поскольку в нем беспредельность обратилась к пределу и как бы затвердела; с тем большим основанием мы именуем его также третьим началом как нечто, появившееся из двух начал и предшествующее им: предшествующее как низшим, поскольку оно пребывает в простоте, а появившееся из них как из высших, поскольку оно опять-таки пребывает в простоте244. Таким образом, оно в двух этих отношениях тождественно, но по сравнению с высшими началами выступает как третье, а с низшими и определенными — как первое. Итак, эта самая триада становится единым в качестве отца, многим в качестве силы, а объединенным в качестве отеческого ума245.
1.4. Пять апорий, вытекающих из этой интерпретации
112. [1] Однако если бы кто-нибудь выдвинул подобные предположения, то разве стал бы он вести речь о трех триадах?246 Ведь в этом случае возникнет необходимость утроить простое единое и простое многое247, и, следовательно, оба они уже не будут простыми. Ибо простое единое повсеместно; объединенное же в своей однородности пусть будет тройственным. А каким образом простое единое будет также и тройственным, трудно даже вообразить.
[2] Однако и объединенное, если кто-нибудь будет вести речь о монадах248, окажется отторгнутым от самого себя, поскольку в этом случае будут существовать три силы, так же как три отца.
[3] Помимо этого, каким образом будет установлено соотношение между первой, второй и третьей триадами? В самом деле, вместе с триадой как таковой впереди второго и третьего отца будет идти также объединенное.
[4] Разве могло бы существовать по отношению к ним какое-либо число? Скорее всего, в этом случае оно присутствует или в том, что во всех отношениях объединено, или же, что еще труднее себе представить, в том, что предшествует даже объединенному. Следовательно, единое — это вовсе не эннеада, так же как и не триада. Таким образом, число будет образовано вовсе не из вещей, принадлежащих к одному роду, поскольку оно составляется из предела, беспредельного и смешанного, или сущего, или же из отца, силы и отеческого ума.
[5] Однако, для того чтобы я мог все это так и оставить, необходимо сказать вот еще что: каков будет — при том, что умопостигаемый космос составляется из этих вещей — следующий за ним умопостигаемо-умной? И каков будет умной? Ведь последнему необходимо существовать в качестве ума, обретшего определенную ипостась, а первому, идущему впереди него,— в качестве жизни, обладающей ипостасью. Следовательно, мы будем полагать, что умопостигаемый космос соответствует сущности, о которой мы говорим как об ипостаси. Стало быть, космос, связанный с объединенным, предшествующим сущности, жизни и уму, вовсе не мог бы быть умопостигаемым, он будет располагаться выше его249. А как он будет называться? Пожалуй, просто космосом, причем неразличимым и собравшим в себе все остальные космосы вместе взятые. Однако если бы кто-нибудь сделал подобное допущение, то каким бы мог быть собственно-умопостигаемый космос? Очевидно, тем, который располагается вокруг сущности, каковая, как говорит <Платон>, является подлинной и которую мы выше соотнесли с высшим чином умопостигаемо-умного. Однако она-то и была началом разделяющегося, а разделяющееся было жизнью. Следовательно, она — начало жизни, а вовсе не сущности, и не нерасторжимого, каковым именно, как мы говорили, является умопостигаемое, а, напротив, разделяющегося, которое у нас было умопостигаемо-умным.
И если кто-нибудь допустил бы и это, то где же, скажем мы, проложить границу умопостигаемо-умного и где она будет проходить? Ведь очевидно, что всякий ум, который существует, чист, и ясно, что с него-то и начинается умное. Следовательно, единственное, что остается,— это создать наряду с начальным и конечным устроениями также промежуточное, связывающее их. А какая триада будет соответствовать этому промежуточному устроению? Действительно, телетархи, согласно оракулу250, связаны с хранителями; последних трое, и точно так же прежде хранителей, как уже было сказано, умопостигаемой сущностью владеют ворожеи. С ними, пожалуй, более всего будет соотноситься умопостигаемое и подлинная сущность — вследствие свойств собирания и связывания в наибольшей возможной степени, с хранителями же — умопостигаемо-умное и первая жизнь, ибо собственным признаком жизни является сохранение в связности разделенной и эйдетической ипостасей и вместе с тем некое следование за этими ипостасями в разделении. Ведь жизнь выказывает непрерывность и дискретность точно так же, как разделенность на части и одновременно связь и единство этих частей, а, говоря иначе и придерживаясь обычной для философов гипотезы, это самое действие, по общему мнению, указывает на расцвет жизни251. Пожалуй, время, соответствующее нашему небу, является изображением вечности, соответствующей тому небу и отмеряющей его круговращение, точно так же, как само небо есть изображение того неба,— разумеется, потому, что оно — его наиболее истинное изваяние, причем это, очевидно, относится к каждому из двух252. Поэтому первый мыслящий ум отделяет самого себя от отца и разделяет его применительно к самому себе по той причине, что жизнь разделяется на части самой раздельностью видов.
Кто-нибудь, кому нравится вести речь о подобных вещах, мог бы, пожалуй, сказать, что умопостигаемое усматривается лишь в монаде завораживающей природы253, умное же племя — в триаде богов-космагов254, или же, каковое разделение проводят философы, чистого, животворящего и демиургического умов255; что же касается промежуточной, умопостигаемо-умной плеромы, то она видится, как это ей и свойственно, в диаде. Ведь диада — жизненная и радующаяся выходам за пределы собственной монады, распространяющимся даже на мельчайшее. Однако что же это за промежуточная диада? Хранительная и телетархическая природы, причем последняя определяет связь между началом и концом256 и в силу необходимости вершит переход между ними, а первая сплачивает и стягивает воедино первое, промежуточное и последнее. Пожалуй, как я и говорил, воспользовавшись подобными умозаключениями, можно было бы прийти именнно к таким выводам.
1.5. Разрешение пятой, апории
1.5.1. «Подлинная сущность» и чистое умопостигаемое
113. Я, со своей стороны, поостерегусь переиначивать старинную гипотезу, которая нравилась не только самым славным из людей (ибо никто из философов, вплоть до самого последнего времени, попыток изменить ее не делал), но и самим богам. Действительно, эллинский теолог Орфей поставил первым Фанета, созерцаемого богами, причем в числе прочих и умными, а в числе последних — демиургом257; с другой стороны, боги, дав многочтимые оракулы, поведали нам о первых триадах как об умопостигаемых и в них же сообщили о мыслящей сверхкосмической глубине, ведающей умных богов258. Если бы я придумал по этому поводу нечто новое, то устыдился бы также божественного Ямвлиха, мужа, который был лучшим толкователем божественных, и в их числе умных, предметов. Итак, мне кажется, что необходимо вслед за ним — человеком, много повидавшим, считать умопостигаемым космосом саму объединенную глубину, охватывающую вовсе не «сущность, являющуюся подлинной», то есть определенную по отношению к наполняющему ее единому, а простую сущность, причем даже не единичную и не смешанную, но лишь единую и предшествующую той и другой. Таким образом, если кто-нибудь из богов или из людей поместит умопостигаемый космос в сущности, причем вот в этой, объединенной, то пусть всякий выслушает их, до этого момента согласившись с их утверждениями, но при этом представив сущность в чистоте и просто таковой, объединенной и совершенно нерасторжимой. В самом деле, все те, кто говорил об этом, располагали умопостигаемый космос в нерасторжимом единстве всего, и никто этого не оспаривает; свидетелем тому выступает Ямвлих, приписывающий умопостигаемому второе после единого начала всего единство, а также утверждающий, что оно всегда располагается вокруг единого и неотторжимо от него259, и избегающий того, чтобы применительно к нему вести речь о каком бы то ни было разделении, двойственности или протяженности, и высказывающий много подобных возражений Пресбиту260.
Если умопостигаемое на самом деле является объединенным, то каким образом можно соединить с умопостигаемым устроением сущность, отделенную от единого, связанную с инаковостью и обладающую свойством некой определенности своих стихий? Как говорится, следует не громоздить заплату на заплату261, но при созерцании безыскусно наисвященнейших зрелищ соединять с рассуждением некую поэтическую проникновенность262. Пусть и сейчас мы положим в основу то самое умопостигаемое, подобно тому как с самого начала оно было расположено в том, что полностью и во всех отношениях нерасторжимо, а в разделяющемся, как было сказано выше и говорится теперь, пусть находится умопостигаемо-умное. В его пределах начинается инаковость, и вот она-то и обусловливает первую разлученность сущего и единого, при том, что последнее заняло свое положение в согласии с той простотой, которая существовала и в высшем, а первое в своей всеохватности оскудело этой простотой, поскольку, конечно же, не осталось ею, но лишь участвует в ней. Потому-то там и существует первое составленное из стихий — соответствующая сущность, так же как и содержащиеся в ней первые стихии и первое число, поскольку там — первая определенность.
Так разве могло бы то, что было много раз сказано и нами, и Платоном, и самими оракулами, не иметь отношения к умопостигаемому? Если здесь находится подлинная сущность и мы познаем ее как имеющуюся, то, с одной стороны, есть высшая причина разделяющегося, сущность, соседствующая с раздельностью, но еще сохраняющая совокупную идею, а с другой — причиной оказывается изменение в противоположную сторону, привносящее вполне понятное слияние стихий в простоту единого так, как будто оно оказывается уже не единым, а скорее объединенным. В самом деле, подобно тому как это единое подражает простому единому, будучи единым по отношению к сущности, при том, что то — всеединое, так и сущность, являющаяся по отношению к нему объединенной, оказывается подражанием простому объединенному и названному всеобъединенному; ее результат — всего лишь объединенная, а правильнее говоря, слитная сущность. При этих условиях она постигается самим сущностным знанием, так же как единое узнается при посредстве единичного, а простое умопостигаемое — при помощи того, которое стоит выше и того и другого. Мы же (по крайней мере, в том положении, в каком находимся сейчас) и сущностным-то знанием обладаем вовсе не в полном объеме (даже в той степени, в которой оно достигает разумной и человеческой души), а лишь как чем-то весьма неотчетливым и словно бы находящимся вдалеке. Следовательно, то, что умопостигаемое не приходит с нами в соприкосновение, совершенно естественно, ибо нас не касается и единичное — то, которое стоит превыше сущности, поскольку его можно увидеть лишь при посредстве божественного знания, по каковой причине мы и сообщаем о том высшем, которое мыслим, как об умопостигаемом и как о подлинной сущности. В самом деле, Платон, рассказав о восхождении душ до этого места263, высказывает предположение, что здесь-το и располагается сущность и что это зрелище доступно только кормчему души264, а если, стало быть, он не останавливает нас при посредстве своего суждения о подлинной сущности, то потому, что такая сущность участвует и в иной, лежащей выше, умопостигаемой сущности, как считал правильным понимать это место Прокл265.
Так вот, это — не простое умопостигаемое, а соотнесенное с чем-то (ведь так полагают философы266), и данная сущность также не простая, а соотнесенная с чем-то, заключенном в самом смысле сущности, и первенствующая в жизненном устроении. Ибо она слита из стихий, а всякое слияние оказывается некоторым образом жизненным, поскольку является и природным, когда существует от природы, или возникает еще позднее, когда появляется благодаря первому искусству267. И если для жизни, как мы и говорили, собственным признаком оказывается пробуждение к раздельности, то сама жизнь будет сущностью, связанной с некой определенностью стихий, при том, что сами стихии, в свою очередь, рождаются в единстве и стремятся некоторым образом воссоединить названную определенность, поскольку такова вся природа стихий. Именно по этой причина она возвращается к сущности; стало быть, это-то, правильно говоря, и является действием высшей жизни, стремящейся быть сущностью больше, чем жизнью, подобно тому как та жизнь, которая связана с умом даже в его низшей степени, стремится к такой связи больше, чем к бытию жизнью. Да и чего в этом удивительного, если высшая сущность представляется лучшей, нежели жизнь, и если высший чин умного оказывается <умопостигаемо->умной сущностью и даже является умопостигаемым в пределах всеобщего умного устроения?268
1.5.2. Нерасторжимое, разделяющееся и разделенное
Так что же, разве мы не располагаем <простую> жизнь и простой ум в умопостигаемом, точно так же, как первой там помещаем простую сущность, и, значит, не только простая сущность оказывается, как мы сейчас говорили, умопостигаемым? Вообще-то, если ум следует за простым умопостигаемым умом, то он-то и является умом мыслящим и умом самим по себе; точно так же вслед за простой объединенной жизнью идет существующая сама по себе здешняя жизнь, логически противостоящая уму. В таком случае разве нет необходимости в налипни еще и сущности, противоположной жизни, а вовсе не являющейся её высшей степенью — напротив, относящейся к иному роду? Скорее всего, опять необходимо заводить речь о том, что одно — это нерасторжимое, а другое — разделяющееся; тогда существует и все в раздельности, причем в числе прочего также единое и сущее. Ведь и то, и другое — это как бы целостные эйдосы, причем один — единичный, а другой — сущностный, всякий же эйдос, как и ум, имеет собственные очертания. В середине находится все разделяющееся, берущее свое начало от единого и сущего, и потому в этом случае ничто не заключается в собственные пределы, но и не объединяется; напротив, возникает как бы течение, не могущее ни остановиться, ни обратиться к некой очерченности; именно так и появилось соответствующее бурление и кипение, которое мы зовем жизнью269. В <высшем> же в числе прочего в нерасторжимости пребывает единое, связанное с сущим, и по этой самой причине сущность совершенно неподвижна и не имеет отношения ни к кипению, ни к бурлению, так что является всего лишь сущностью.
114. Вот как, в согласии с истиной, соотносятся между собой эти предметы и вот в каких пределах они размещаются. Тем не менее в силу аналогии в каждом из них содержится все: в нерасторжимом целом — как более всего нерасторжимое, а в полностью объединенной природе — как разделяющееся; потому-то и во всеобщей сущности имеется сущность в самом расцвете, благодаря промежуточному присутствует жизнь, третье же оказывается умом, и при этом речь идет о простой жизни и о простом уме, поскольку в том, что всего лишь объединено, сущее не отторгнуто от единого. В свою очередь, в разделяющемся, являющемся целым как таковым, высшее — это прежде всего сущность, которую мы называем так, чтобы противопоставить генаде; на этой вершине самого разделяющегося, которое оказывается таковым в наименьшей степени и потому более всего являет именно природу сущности, просматривается и нечто жизненное. Промежуточное же, соответствующее расцвету разделяющегося,— это прежде всего одна только жизнь, неподвластная ни нерасторжимости, ни раздельности, а пребывающая всего лишь как само разделяющееся в чистом виде. Далее, в разделенном сперва некоторым образом проглядывает нерасторжимое и именно потому присутствует умная сущность270. В его середине имеется разделяющееся, и потому здесь, в согласии с природой, находится умная жизнь. В низшем же, там, где расцвета достигает мыслящий ум, также содержится разделяющееся, и по этой самой причине такой ум соразмерен материальному устроению.
1.5.3. Простая жизнь и простой ум
При том, что все описанное уже много раз было определено именно так, если на этом будет настаивать тот, кто, обособляя единое от сущего, высказывает недоумение в отношении нерасторжимой жизни, а также по поводу того, что и ум является таким271, то получится, что в объединенном даже эти вещи по природе именно таковы; впрочем, подобное имеет место не случайно, напротив, пусть этот человек достигнет должного понимания, выйдя за границы приведенных определений. В самом деле, жизнь не может быть тем, что она есть, если единое не отделяется от сущего, и ум также на это не способен, если прежде всего нет названного как разделенного272. Таким образом, в согласии с наиважнейшим смыслом, там, где единое находится вот в таком соотношении с сущим, возникает собственно-простой род: если сущность объединена, то, очевидно, потому, что и все остальное пребывает в себе в объединенности; если жизнь разделяется, то потому, что все уже движется к раздельности, а если ум пребывает в раздельности, то потому, что и все остальное в нем обрело собственные пределы. Стало быть, таковы простой ум, простая жизнь и простая сущность.
115. Так почему же выше мы говорили, что в данном положении находится та жизнь, которая предшествует и той и другой, а также ум, идущий впереди и того и другого, при том, что оба они предшествуют раздельности сущего <и единого>, подобно тому как сущность соответствует составному, и что точно так же некая обособленная сущность выступает в качестве жизни и ума; при этом мы указывали, что одно дело единое, а другое — сущее? Скорее всего, подобные суждения обладают истинностью в описанном смысле. Тем не менее сейчас, добиваясь точности, мы утверждаем, что сущность есть объединенная природа, достойная того, чтобы располагаться вслед за единым, и что «быть» для сущности означает быть вот этим объединенным. Такова простая сущность, но имеется и иная, соотносящаяся с чем-ти, что идет вслед за названным,— жизненная, умная, душевная, или же, если бы кто-нибудь захотел назвать и ее, то материальная273. А простой жизнью оказывается та, которая проявляет себя в разделении. И если есть какая-то разумная, эйдетическая, душевная или материальная жизнь, то каждая из них, пожалуй, существует лишь в некотором отношении. Следовательно, сходное положение занимает и простой ум, наблюдающийся в первом разделенном, тот же ум, который будет идти за ним,— это ум, определенный и выступающий в некой соотнесенности. Подобно тому как жизнь в нерасторжимом выступает в некоем соотношении и как это имеет место в нем, так и в разделяющемся присутствует сущность — именно в нем и в некотором отношении. Стало быть, прежде единого и сущего вовсе нет предшествующего и тому и другому единого сущего, ибо в таком случае прежде этих двух видов жизни также должна была бы существовать жизнь, предшествующая им обоим; подобные апории могли бы также быть высказаны и применительно к уму.
1.5.4. Соотнесение с единым сущим
Далее, не будет ли истинным то мнение философов274, что умопостигаемое — это идущее впереди единое и следующее за ним сущее и что последнее соединено с первым в наиболее возможной степени?275Вероятно, необходимо сказать, что если они пребывают в нерасторжимости, то в этом случае говорится то же самое, что и у нас, ибо разделение начинается в пределах жизни. Если же одно выступает как содержащее, а другое — как содержимое, то тогда они полностью обособлены друг от друга, а это — собственный признак ума. И сами философы, разумеется, согласны с данным утверждением, поскольку часто воспевают возвращение ума к самому себе276, возвращение же к самому себе всегда сочетается с обособлением от всего остального и с инаковостью. Следовательно, если сущность будет чем-то отличаться от ума, ей необходимо быть нерасторжимой. Если же она нерасторжима, а ум разделен, то жизни необходимо быть чем-то разделяющимся; стало быть, жизнь не может, словно сущность, идти впереди единого и сущего, ибо, говоря просто и правильно, даже сущность не может состоять из них обоих в качестве разделенных или разделяющихся.
Кроме того, самое правильное — следующее утвердждение: первое277 идет впереди единого и сущего, в то время как ни единое, ни сущее само по себе не проявляется, второе278 происходит из них обоих в качестве отделившегося от них, всего лишь выстроенных в определенном порядке, а третье279 следует за ними обоими, как бы располагаясь между ними, то есть между объединенностью и раздельностью, еще обладая чем-то от изначального единства, но уже выказывая нечто и от раздельности. Это сама первая и простая жизнь, поскольку инаковость и раздельность здесь наиболее почитаемы.
1.5.5. Имеет ли смысл говорить о простой ипостаси?
Впрочем, в связи со смешанным и сущностным мы имеем обыкновение много говорить о соответствующих трех предметах: знании, жизни и сущности или же, с другой стороны, об уме, жизни и сущности. Определяя живое существо, мы говорим о живущей и мыслящей сущности280, как будто одно дело — это сущность, другое — жизнь, а третье — знание. В этом случае единичного нет нигде — напротив, и его мы разделяем на три названные части, давая им имена сверхсущностного ума и подобных же жизни и сущности под тем предлогом, что сущность имеется в каждом случае — и в едином, и в сущем.
116. Так почему же сейчас рассуждение вынуждает нас считать, будто есть только нерасторжимая сущность, связанная и с единым, и с сущим? Скорее всего, и о том и о другом говорится во многих смыслах и во всех случаях они сохраняют одну и ту же аналогию между собой. Ведь последняя сущность — бездушный эйдос — сама по себе неподвижна. Если бы этот эйдос двигался так, как это положено по природе, то соответствующая природа стала бы для него жизнью, не позволяющей ему оставаться нераздельным и как бы замороженным в самом себе,— напротив, она разогревала бы сущность собственной энергией и предоставляла бы ей кипение. Когда же добавляется более совершенная жизнь, она создает растение, а вслед за ней способность к чувственному восприятию уже выделяет животное и расчленяет жизнь в ее собственных пределах, с тем чтобы вычленяемое, помимо прочего, предавалось бы тоске по собственному достоянию и наслаждению им281. Иные же сущность, жизнь и знание само-движны, эйдетичны и выступают в качестве эйдоса, в пределах которого бытие, жизнь и познание обособлены друг от друга, даже если в каком-то ином отношении они и смешаны между собой. Однако когда в душе познающее и различающее предметы познания начала пребывают в своих собственных границах в раздельности, то жизненное начало вслед за разделением срастается в единстве и всегда оказывается непрерывным течением к самому себе; потому-то оно и предоставляет телам некую пространственную взаимосвязь.
Названному предшествует неподвижная сущность ума, такая же жизнь и пребывающее в том же состоянии знание, и все они также эйдетичны, ибо обособлены друг от друга; однако такое их состояние естественным образом связано именно с познавательной природой — подобное потому и есть первое и простое знание, что оно придает форму уму и само обретает эту форму в раздельности. Жизнь же в уме не является простой, поскольку в нем существует лишь жизненный эйдос, а вовсе не первая жизнь в простоте; следовательно, в нем тем более отсутствует и сущность, но имеются подобия сущности и жизни, причем все они есть ум и принадлежат уму, впереди же ума идет подлинная жизнь, являющаяся только таковой, а вовсе в дополнение к этому не эйдосом; она не замыкается в собственных границах при возвращении к самой себе, но распространяется гораздо шире, чем это возможно при таком возвращении. Превыше ее — сущность,Не терпящая никакого растекания, так же как и течения вверх или вниз, но на деле устойчиво и во всех отношениях сплоченная в нерасторжимости, а вовсе не разделившаяся в применении к жизни, к уму или к чему-то другому, появляющемуся от нее на свет. В самом деле, жизнь также не отделена от того, что идет за ней,— напротив, обе они одинаково относятся к последующему, поскольку жизнь всего лишь разделяется, а сущность, пребывая в нерасторжимости, лишь этим отличается от пребывающего собой. Впрочем, все приведенные определения уже были даны выше.
Сейчас следует перейти к соответствующей апории. Когда мы рассматриваем сущность, жизнь и ум или знание, мы видим их собственные эйдетические признаки как логически противостоящие друг другу и воспринимаем их как три эйдоса; при этом происходит примерно то же, что и в том случае, если кто-нибудь рассматривает эйдетическое единое или сущее или же предел или беспредельное: не первые начала, а некоторым образом разграниченные части, одноименные началам; на этом основании сами начала мы именуем так, как будто по природе они раз-ноименны. По крайней мере в таком случае, я полагаю, мы представляем себе их все — сущность, жизнь и знание — как эйдетические и как те, которым в силу этого по природе свойственно получать свое имя или определение. Похоже, мы считаем, будто точно так же, как и последние названные, высшие предметы необходимо мыслить и определять не как неподвижные, а как самодвижные или даже, если угодно, как приводимые в движение иным, а также как воспринимаемые при посредстве мнения, а не просто давать им то же имя, что и тем, и, скорее, при посредстве аналогии представлять себе на основании эйдетических предметов сверхэйдетические282.
Итак, чем в данном случае является эта самая сущность по отношению к жизни, а жизнь — по отношению к знанию, тем же самым среди первых ипостасей выступает то, что полностью неподвижно (в смысле движения как разделения), по отношению к начинающему в том же смысле двигаться, а последнее — по отношению к пребывающему в движении. Пребывающее в движении — это простой ум, начинающее движение — простая жизнь, а неподвижное — простая сущность. Простой ум и простой эйдос тождественны, а простая и эйдетическая жизни отнюдь не таковы, поскольку простая жизнь сверхэйдетична. Что же касается простой сущности, то она стоит выше и эйдетической, и жизненной, причем именно потому, что она простая. Таким образом, благодаря проведенному сейчас разделению мы в состоянии более или менее правильно определить не только каждое названное как простое, но и то, что следует за простым. Стало быть, пусть никто не сочтет, будто на основании их как определенных можно при посредстве аналогии охарактеризовать их и как простые и сосуществующие со своей собственной истиной, и пусть никто не совершает восхождения от обыденных понятий к сверхъестественной сути всяческого родства — напротив, пусть он выслушает то, что мы говорим относительно как сущности и жизни, так и подлинного ума, наглядно представляя их на основании родственного по природе, пребывающей в недоступных местах и воспринимаемой нами издалека; тем не менее правильно и на вершине умозрения усматривать все три эти вещи в любой из них — поскольку все они есть каждая из них283,— удваивая тем самым аналогию с высшим и пользуясь тем, что было показано ранее, для более детального и наглядного представления о других предметах.
В ответ на последнюю апорию, пожалуй, достаточно и этого, а позднее, если будет нужно, мы скажем по данному поводу еще что-нибудь; во всяком случае, это будет необходимо, когда мы станем исследовать то, в каком месте нужно расположить живое-в-себе284. Впрочем, в связи с вышесказанным можно сразу предположить, что, поскольку оно полно жизни и занимает второе после самой жизни положение, та по аналогии будет во всех случаях находиться в описанном соотношении с ней и при этом, разумеется, будет выступать в качестве первой парадигмы.
1.6. Разрешение четвертой, апории
1.6.1. Применение понятия числа к умопостигаемому
117. Ну что же, давайте теперь рассмотрим применительно к остальным апориям, есть ли в них что-либо здравое или ошибочное. Например, мы не будем утверждать, что в умопостигаемом имеется какое-либо число, относящееся к однородным или неоднородным предметам, ибо там вообще нет природы определенного, поскольку в простом объединенном не существует ни связности, ни различия, ни инаковости, ни раздельности. Так что же это в умопостигаемом за воспеваемая эннеада?285 Скорее всего, она выступает лишь как наглядно-очевидное указание на все-совершенство тамошней триады, которую мы, не будучи в состоянии описать ее в рассуждении как совокупную, расчленяем натрое286; в ней выделяются ее всецелое совершенство — то, которое объемлет все, идет впереди всякого множества, порождает любую триаду, где бы и каким бы образом она ни существовала, и возглавляет каждый выход за свои пределы, вплоть до самого конца, а также непорабощенность порождающей силы и тем более все остальное похожее. Вернее, объединенное есть сверхумозрительный образ (μετάνόημα) всех подобных умозрительных представлений, и мы стремимся связать его с соответствующей триадой только в целях ее наглядного представления.
Так что же это за триада? Отнюдь не три монады, как утверждает даже сам Ямвлих, а всего лишь нематериальный эйдос, определяемый вне всякой связи с монадами287. Впрочем, это даже и не эйдос (ибо какая могла бы быть в объединенном собственная определенность внешнего облика?288), а само единое, которое является цветом эйдоса. Однако ведь это не то единое, которое, в согласии с природой, расцветает подле одного из эйдосов, например подле триады, и, конечно же, не то, которое связано со всеми эйдосами, вместе взятыми289. Ведь последнее единое соответствует разделенному; таким образом, оно не будет тем единым, которое соотносится с нерасторжимой триадой. Напротив, триада опять-таки обозначает начало, середину и конец объединенного, при том, что и они выступают как объединенные290. Далее, простое единое не было признано нами арифметическим, оно указывало на единую простоту всего. И следующая за ним так называемая неопределенная диада вовсе не основывалась на двух монадах, напротив, при посредстве самой себя она появлялась как причина, сама по себе порождающая все и связанная с единым. Им обоим соответствовал отец, способный рождать все; разумеется, из них троих составлялось объединенное — как бы энергия, появляющаяся на свет благодаря силе. Следовательно, из этих монады и диады возникла триада, в согласии с природой владеющая объединенным и, конечно же, являющаяся диадой, совершившей возвращение к единому, а потому ставшей отеческим умом.
1.6.2. Триада не есть ни одно, ни три
Однако, говоря так, разве будем мы вести речь о трех <моментах триады>? Пожалуй, отец-то, имеющий силу и порождающий все следующее за ним, и есть сама триада в целом291. Стало быть, триада — это монада, причем монада, являющаяся не началом числа, а причиной как монады, так и любого числа вообще, и она существует не в каких-то собственных очертаниях — наподобие выделившегося эйдоса,— а как однородная простота всего. Так являются ли эти три вещи тождественными или иными друг другу? И оказывается ли триада монадой? Пожалуй, ни одно из этих утверждений не соответствует истине. В самом деле, там нет ничего подобного: ни тождества, ни инаковости, ни триады, ни противоположной последней монады, поскольку умопостигаемому не может соответствовать никакая антитеза. Следовательно, оказывается ли объединенное тем же самым, что единое? Или единое — тем же самым, что многое? Или же многое — тем же, что объединенное? Разумеется, я этого утверждать не стану. Так почему же все — не эти три вещи? Да потому, что ничуть не менее верно и обратное суждение, ибо мы также говорим, что единое — это многое, а многое есть все, и что нет одного или другого. В самом деле, единое — вовсе не какое-то единое своеобразие, оно такое же, как и все, а все выступает всем не в качестве всего, а как единое, и то же самое относится ко многому. Поскольку единое — это не-единое, все оказывается определенным многим292. Хотя выше мы и говорили, что «все» означает второе начало, выступающее как все, соотнесенное с единым, то сейчас, несколько изменив свое мнение, давайте лучше скажем, что все и многое не тождественны, но что всем стало многое, обретшее сверх того границу, поскольку как собственно многое оно беспредельно. Следовательно, единое — это отец, многое — неопределенная сила единого, а все — ум отца293. Кроме того, всем было многое, ограниченное пределом в виде единого при своем возвращении к нему. Ты видишь, что многое по своей природе занимает промежуточное положение между единым и всем: единое — это лишь простота, а все — единство всех вещей, вместе взятых. Следовательно, ум возник как объединенное; подобно тому как в умном все обладает своими очертаниями в виде эйдоса, в объединенном оно слито в неописуемости как единое294. Стало быть, эта самая природа, будучи простой, оказывается и монадой, и многим — ибо такова простота, объемлющая многочисленное и беспредельное,— но, однако, к тому же и всем, так как многое в ней ограничено единым, поскольку связано с ним. А не является ли она монадой благодаря положенному в основу, если обладает тремя собственными признаками?295 Мы в этом случае, не будучи в состоянии постичь единый предмет, связующий эти три вещи, производим разделение. В самом деле, желая определить другое, мы называем его вместо единого многим, поскольку вместо составленного из стихий указываем на сами стихии. Подобно тому как в применении к последним мы считаем нужным рассматривать предшествующий им или возникающий в дополнение к ним эйдос, восходя к нему от этих самых стихий, так и в данном случае тем более необходимо отринуть определенные собственные признаки и совершить восхождение к единой и простой природе, на основании которой в низшем возникает раздельность этих самых собственных признаков.
1.6.3. Единое триады
Пусть же общность указанных трех вещей мыслится как единое триады, причем не арифметической296, а той самой всеобщей, которая, как мы только что установили, является триадой высших начал, так же как и монада была у нас не арифметической, а монадой всего, в которой предвосхищено все, подобно тому как в монаде изначально заложено любое число. Попросту говоря, эйдетическими идиомами мы пользуемся для наглядного представления сверхэйдетических, арифметическими — как символами неисчислимого и совершенно неопределенного, а порой — ради более точного разъяснения предмета нашего обсуждения. И если мы не в состоянии высказаться непосредственно, необходимо принять то объяснение, что единое — это центр всего, отстояние от центра — второе начало, оказывающееся как бы растеканием самого центра, а окружность и периферия, выступающие в качестве некоего возвращения к центру вслед за их отстоянием от него, это отеческий ум; все же в целом есть единый круг или, что более естественно, сфера. Ясно, что речь идет не об эйдосе, а о природе более однородной, нежели эйдос297Так что же еще можно было бы сказать относительно единого? Действительно, оно придает форму этому самому нематериальному кругу.
Вообще говоря, мы отнюдь не исчисляем умопостигаемое на пальцах и не соотносим с ним определенных понятий — напротив, мы совершаем это, собрав вместе все мысленные образы, закрыв глаза и возведя горе единый величайший взор души, который не видит ничего определенного298. Ведь то, о чем идет речь,— это не само подлинное единое, а всего лишь объединенное, и не то, что противостоит разделяющемуся, а то, в чем соединено и оно. Так вот, мы, глядя на высшее именно так — пусть даже сами находимся далеко, среди низшего299,— все-таки способны узреть умопостигаемое, то, что в действительности совершенно неделимо и неисчислимо,— по крайней мере благодаря тому, что, хотя оно и находится в таком именно положении, предметом воображения для нас, если нужно об этом говорить, служит, с одной стороны, его простота, с другой — множественность, а с третьей — всеобщность, ибо умопостигаемое есть единое многое все — как бы тройственное истолкование единой природы.
Почему единое и многое оказываются единой природой? Потому, Что многое — это беспредельная сила единого. А почему таковые — единое и все? Потому, что все есть повсеместная энергия единого. Впрочем, не следует говорить об энергии как о напряжении силы, направленном вовне, и о силе как о напряжении наличного бытия, пребывающем внутри, а опять-таки нужно вести речь об этих трех вещах вместо единого. В самом деле, для их объяснения, как мы указывали много раз, не подходит никакое единое имя. Так неразличимы ли они? Легко представить себе, в каком смысле это верно. Ведь мы говорим, что начал три — отец, сила и отеческий ум — и что они следуют одно за другим. Однако, в согласии с истиной, они вовсе не являются ни одним, ни тремя, ни одновременно одним и тремя — лишь для нас самих существует необходимость объяснять их при посредстве таких имен и мысленных образов, связанная с недостатком того, что им соответствует, а вернее, с предрасположенностью к таким объяснениям, которые им никак не подобают. Ибо это мы называем их единым, многим и всем, отцом, силой и отеческим умом и, в свою очередь, пределом, беспредельным и смешанным; мы также именуем их монадой, неопределенной диадой и триадой — отеческим качеством, состоящим из них обоих. И как в одном, так и в другом случае, очистив наши мысли, насколько это возможно, мы отвергаем соответствие имен самим предметам. Итак, пусть со всяческими оговорками будет сказано, что умопостигаемая триада является триадой как единое триады, при том, что сама триада представляется состоящей из трех первых начал. Относительно же ее единства, мы, пожалуй, не сможем сказать ничего стоящего300.
1.7. Разрешение третьей, и второй апорий
Что же касается чина, образующегося из трех триад, то если бы кто-нибудь представил рассмотренную триаду как единое умопостигаемой — той, которой она могла бы, пожалуй, стать,— он узрел бы это единое как совершенное сущее, установив в нем повсеместную распространенность триадического, поскольку последнее присутствует в каждой из трех монад. В самом деле, монады одних чисел также не бывают неотличимыми от монад других, напротив, монады триады триадны, а монады тетрады тетрадны301. Если бы кто-нибудь, как я и говорил, и в отношении монад данной всевеликой триады предположил бы, что они не просто монады, а собственные монады триады, то, пожалуй, и в едином этой самой триады он углядел бы совокупный выход умопостигаемого за свои пределы в виде трех триад, при этом вовсе не связанный с отпадением от собственного единства. Однако в таком случае объединенное вовсе не будет предшествовать второму единому как первое, по поводу чего, похоже, и испытывал затруднения разум, поскольку каждая монада в собственном чине будет обладать триадностью, оставаясь тем не менее собой. Ведь в этом случае единое оказывается триадическим прежде всего остального, многое — во вторую очередь, а вслед за ними и объединенное — в третью. Всеобщий отец при посредстве промежуточной всеобщей силы соединяется со всеобщим умом как единый при посредстве единой с единым и, в свой черед, как тройной при посредстве тройной с тройным. В действительности же объединенное вовсе не отторгнуто от себя самого в виде трех монад, ибо оно все равно осталось бы объединенным, даже если бы выказало в себе самом тройственное; тем более это относится к трехместному единому, и точно в таком же положении находится сила, даже если она и проявляется в качестве трех природной.
1.8. Разрешение первой апории
1.8.1. Тройственность единого, многого и простого объединенного
Почему же единое будет тройным? Скорее всего потому, что речь идет о едином сущем, причем как об условии троичности объединенного. В самом деле, пусть, как было сказано, оно в каком-то смысле будет объединенной троичностью; что касается единого, то оно эту троичность возвращает к себе, так что как таковое обладает тройственной явленностью. Равным образом и сила, поскольку она есть диада, сопрягающаяся с единым, оказывается единовидной, но наряду с объединенностью представляется тройной. Следовательно, диада располагается между единым и триадой, ибо и в самом деле объединенное в качестве третьего будет триадой естественным, а то, что ему предшествует, сверхъестественным образом. Стало быть, нет ничего удивительного или ужасного в том, чтобы в таком случае мыслить единое как утраивающееся, причем не потому, что оно исчисляется или определяется, а потому, что оно предвосхищает в себе тройственность объединенного, и потому, что оно оказывается триадическим единым во всеобщей триаде или чем-то похожим, относительно чего можно было бы высказать предположения. Пусть же лучше мыслится оно, нежели раздельность единогоЗО2, если, конечно, не будет правильнее предположить и некий его отход от самого себя, поскольку оно является и одним, и тремя отцами — единым, тождественным и обладающим тремя формами: в большей мере единым, но выказывающим также некую троичность,— я говорю не о разделенном на три части, а о неделимом едином триады. Однако если единое троично, то почему оно есть простое единое? Ведь по этому поводу и ранее разум пребывал в справедливом недоумении. Похоже, что мы, высказывая предположения относительно простого единого, простого многого и простого всего в качестве объединенного, на самом деле образовывали из этих трех простых монад простую триаду, и, стало быть, в этом случае триадическое было связано с простым единым, поскольку последнее предвосхищало эту самую всеобщую триаду, как бы достигало в ней своего завершения, причислялось ко всем остальным простым началам и, как первое, возглавляло второе и третье среди них. Действительно, пусть простое единое на самом деле будет неисчислимым и, если следует выражаться яснее, не триадическим и не монадическим, ибо оно не связано с монадой, как, конечно же, в согласии с истиной, не является и единым303 и как о таковом речь о нем идет лишь ради его наглядного представления; таково и простое объединенное, однако между ними располагается многое, причем такое именно, о котором говорится просто, без какой-либо определенности и добавления чего-либо иного.
1.8.2. Необходимость и недостаточность словесного выражения в применении к первым началам
118. Итак, эти три предмета отнюдь не следует называть тремя, то есть обладающими свойством быть тремя как таковыми, поскольку никакое другое свойство им также не присуще. Скорее всего, это мы сами, ведя беседу о наивысших началах так, как положено людям, не в состоянии ни мыслить, ни именовать их никаким иным способом, кроме того, при котором вынуждены пользоваться словами применительно к предметам столь возвышенным, что они оказываются потусторонними всякому <уму>, жизни и сущности, коль скоро даже боги иногда дают некоторым из нас наставления об этих или других предметах вовсе не так, как они их мыслят, и не так, как это им подобает. Напротив, подобно тому как они разговаривают с египтянами, сирийцами или эллинами на собственном для тех языке — а иначе издавать какие-либо звуки было бы бессмысленно,— точно так же, задавшись целью передать собственные представления людям, они, по справедливости, будут пользоваться человеческой речью. Последняя же составляется не только из таких вот речений и имен, но и из мысленных образов, аналогичных и изначально соответствующих им304. Стало быть, даже если мы искажаем саму истину, исследуя то, сколь великой и каковой именно оказывается умопостигаемая глубина, и переводим разговор на низшее и делимое, одновременно увлекаемые или низводимые к нему в силу необходимости держаться за наше менее всего достойное ничтожество, все равно у нас имеется нужда в таком отклонении и искажении, поскольку иначе — а мы сейчас в состоянии делать это лишь вот так — об этих предметах мыслить было бы невозможно: необходимо стремиться к тому, чтобы, пусть даже и издалека, еле-еле и почти неощутимо, но все-таки хотя бы как-то, прикасаться к ним или, хоть в малой степени, предполагать их след, словно молнию, внезапно блеснувшую перед нашими глазами; даже если эта молния источает свой блеск благодаря здешнему и душе и оказывается самой крохотной и не слишком яркой, все равно в силу аналогии она выступает для нас как свидетельство существования той, самой яркой исверхвеликойЗО5. Необходимо быть благодарными хотя бы за такое проявление разума, поскольку он тем самым порочит самого себя и готов устыдиться и оказаться не в состоянии смотреть прямо на этот свет — на объединенное и умопостигаемое.
Стало быть, мы говорим о тамошней триаде как об обозначающей нерасторжимое множество, в свою очередь — о диаде как о причине этого множества, а вслед за ними — о монаде как о самом едином, потустороннем множеству. Вот это-то и есть прославленная умопостигаемая триада; желая так или иначе говорить о ней, мы самим этим скрываем ее от самих себя, представляя в своих рассуждениях более или менее разнородной, причем прежде всего тогда, когда описываем ее как эннеаду, делая выводы в отношении чего-то совершенного и возглавляющего все — от первых до последних вещей, на самом деле пребывающего в третьем, оформленном в виде триады, так же как и о предшествующих ему началах, созерцая, словно в зеркале, кажущиеся троичными три освещающие его совершенные формы, подобно тому как из-за облака, имеющего три отражающие поверхности, однородный цвет Солнца предстает в виде зримой разноцветной радуги306. Потому-то Сократ в «Филебе», будучи не в состоянии рассматривать непосредственно высшее единое, поведал о нем как о триаде, располагаю-щеися, как он говорит, в его преддверии307, причина тому — разумеется, узрение им триады, сияющей блеском единой генады в самом объединенном.
Вообще же, о триаде, как и обо всем остальном, мы говорим с целью наглядного представления тамошнего. Первое начало есть монада, второе — неопределенная диада, а третье — триада, потому что одно начало рассматривалось в возвращении, а другое, предшествующее ему, в пребывании. Точно так и всеобщая триада, состоящая из них, вовсе не предстает в виде трех монад, как это может показаться, напротив, она существует потому, что одно и то же единое и всесовершенное единство пребывает самим собой, выходит за свои пределы и возвращается в них, причем совершает это вовсе не как нечто тройственное — вплоть до самого конца мы говорим о едином, предшествующем трем и пребывающем в третьем сущем, по природе выступающем в трех формах и обладающем силой в отношении трех предшествующих ему начал и трех предметов.
Так три отца или один? Скорее всего, их три в том же смысле, в каком они стоят надо всякой триадой, а значит, и над любым единым, которое как единое мы противопоставляем двум и трем. Следовательно, и сила не оказывается ни одной, ни тремя, и то же самое касается умов, выступающих как объединенное. В самом деле, в объединенном никак не определены ни «один», ни «два», ни «три» — напротив, подобно тому как тамошние вещи стоят выше всякой определенности, они превышают и ум, более всего важный, имеющий отношение и к «одному», и к «двум», и к «трем». Однако, даже если бы дело обстояло так, как, в согласии с истиной, оно в действительности в отношении той природы и обстоит, все равно мы восходили бы к ней, добиваясь ясности и вразумительности для людей самого священного из того, что появляется на свет от нее и следует за ней, каковы единое, многое, объединенное, благо, причина всего, предел, беспредельное и тому подобное, точно так же, как и совершенное, законченное и определенное сущее, с каковым, разумеется, связаны триада и ее выход за свои пределы. Все перечисленное в качестве ипостасей существует после умопостигаемого, а в смысле представления, причины или аналогии — в объединенном308: именно в виде предвосхищения представления, причины или аналогии, переходящего от него ко многому как ко всего лишь таковому и ничему другому. То же самое происходит, когда во множестве, предшествующем всякому числу, видят некоторую незаконченность, а вернее, нерасторжимое предвосхищение ипостаси чисел — что-то наподобие предвосхищения эйдосов в безвидной материи. На третьей ступени, когда многое восходит от хаоса к высшему, в эфире простоты всего309 данная ипостась будет связана с предположением, что все это заложено изначально, поскольку ей сопутствует и ей принадлежит как хаотическая беспредельность, так и нерасторжимая сплоченность всего.
1.8.3. Представление о девяти триадических чинах
119. Однако, коль скоро мы дерзаем как-то исчислять неисчислимое, выстраивать в определенном порядке то, что стоит выше любого порядка, и при этом соотносить определенную упорядоченность с подлинной сверхкосмической глубиной, давайте теперь скажем о том, как именно и каким образом это необходимо делать. Так вот, поскольку имеется умопостигаемый космос, так же как умопостигаемо-умной и тот умной, который по воле случая претерпел первое разделение, в дальнейшем каждую из этих трех частей мы в свою очередь — по аналогии с последующим — разделяем натрое и на основании одного приписываем некий намек на раздельность другому — в том смысле, что насколько умной космос находится в раздельности, настолько умопостигаемо-умной310 — в разделении, а насколько последний пребывает в разделении, настолько умопостигаемый — в собственной нерасторжимости, причем благодаря своей совершенной полноте ничуть не меньше. Стало быть, как я и говорил, усматривая в нем повсеместное совершенство, мы делим его на отца, силу и ум, а каждую из этих трех частей в свою очередь также натрое.
И что же, разве при этом не происходит расчленения отца на трех отцов, силы — на три силы, а ума — на три ума? И разве после этого мы не привели в соответствие и не расположили в определенном соотношении собственное для каждого, основываясь на их принадлежности к одному чину? Не иначе как в этом случае триады окажутся рассеянными, поскольку каждая из них будет образовываться на основании и первой, и второй, и третьей и не будет как первой, так и второй и третьей всеобщей триады, ибо каждая из них внутри себя будет принадлежать к различным чинам и станет неоднородной. В применении к следующим за этим космосам дело будет обстоять вовсе не так. Действительно, отеческая природа будет располагаться среди природы ворожей в целом, связанная с силой — среди природы хранителей, а умная — среди природы телетархов, и мы в этом случае вовсе не будем составлять каждую триаду из трех предметов, а станем разделять каждую природу собственным для нее образом на три части, да еще в согласии с эйдосом полной раздельности. В самом деле, природа ворожей делится на отца, силу и ум, и то же касается природ хранителей и телетархов. Следовательно, в данном случае каждую монаду умопостигаемой триады мы в свою очередь разделяем натрое, например отеческую — на отца, силу и ум. Ведь есть единый всеобщий отец; в том отношении, в котором он существует сам по себе, он является всего лишь отцом, в том, в котором с ним соединяется сила и он образует с ней общность, он некоторым образом сам становится силой, а в том, в котором он оказывается отцом ума и последний принадлежит ему, он превращается в ум. Стало быть, в данном случае, будучи единым, он в собственной простоте тем не менее представляет собой и триаду. Точно так же становится триадой и сила, пребывающая самостоятельной и сочетающаяся с каждым из предельных состояний. Кроме того, и ум в третий черед равным образом обретает тройственность: в той мере, в какой он возвратился к отцу, он становится в третьей собственной триаде отеческим, в той, в какой он соединяется с силой, он оказывается разумной силой, а в той, в какой он пребывает в своей несмешанности подле лучшего, он не включает себя в триаду. В таком случае монады каждой триады оказываются однородными и принадлежащими к одному чину, а триады при этом в состоянии слиться в монады, поскольку каждая будет рассматриваться как единое триады, а не как ее множество.
1.8.4. Свертывание триады в единое
Однако и сами три всеобщие триады, так же как и монады, вовсе не будут отстоять друг от друга в раздельности, а, напротив, они станут объединяться между собой прежде всякой монады — в отношении ее самой как объединенной, в то время как простое единое основывает свою первую единящую силу на сочетающихся и связанных с ним началах и насильственно включает их в собственное невыразимое единство, превосходство которого над единством монады столь велико, что даже третье, которое мы и называли объединенным, происходит от единого и тем не менее благодаря собственной природе аналогично ему прежде безыскусной простоты единого и превыше монады. В самом деле, монада есть эйдос, а если не эйдос, то, по крайней мере, нечто определенное или хотя бы начало определенного состояния; объединенное же стоит выше и эйдоса, и всякой определенности, и любой сущности, выявляемой в согласии с инаковостью, оно — начало не числа, а всего простого, что следует за ним; кроме того, оно отнюдь не содержит в себе множества многих чисел в зачатке, но совершенно неисчислимо и нерасторжимо и является лишь собственно тем, что именуется объединенным. Следовательно, в этом случае никакой кажущейся триады на самом деле не существует, поскольку три предмета — объединенное, многое и единое — вовсе не обособлены друг от друга, напротив, объединенное разливается во многое, по крайней мере в случае преобладания силы. Последняя же вместе с ним, разлившимся в виде силы, сплачивается в единое, отринув собственное растекание и возвысившись до его простоты311. Стало быть, эта самая сила скрепила все, не позволив проявиться определенности триады, а представив все как единое, подобно тому как она же сделала беспредельным хаосом, возникшим из-за ее неопределенности, даже сам ум. А последний именно в той мере, в какой он уступает важнейшим началам, проявляет себя всего лишь как таковой.
Так почему же, в самом деле, существует триада? Ведь монады каждой триады оказываются худшими, нежели она сама в целом, и, конечно же, ни одна из них не затеняет собственную монаду, а, напротив, возникает вместе с ней. На самом деле единое лучше всего, и прежде него нет ничего, так что нет и этой самой всеобщей триады, ибо как же может многое предшествовать единому? Кроме того, единое скрывает триаду, поскольку в самом себе исчерпывает всякую определенность. Потому-то в едином так называемая триада оказывается всего лишь монадой, а во многом она выступает как диада, так как здесь имеется сила; в объединенном некая явленность триады будет вполне очевидной вследствие того, что оно первым обладает свойствами бытия как единым, так и многим. Триада — это первое число, один и два, то есть и объединенное, и множественное — и монадное и диадное.
1.9. Триадические свойства и три начала
1.9.1. Аналогия со структурой
120. Пусть же здесь будет положен у нас конец подобным рассуждениям. В самом деле, когда еще мы смогли бы прекратить наше состязание в сообразных с природой речах-размышлениях относительно воспеваемых умопостигаемых триад? Давайте же обратим свой разум ко всем тем исследованиям, которые посвящены самой природе триад, именуемых отеческой, динамической и умной. Действительно, не получается ли так, что, поскольку явственно прослеживается средний чин, одна триада соответствует силе и рассматривается в качестве начала всяческих сил, другая, предстающая как наличное бытие,— отеческая, на основании которой и идет речь о силе, третья же — умная, энергия, появляющаяся на свет от силы и принадлежащая наличному бытию? В самом деле, сущность соотносится с силой, а сила — с энергией так же, мог бы сказать кто-нибудь, как отеческое своеобразие с динамическим, а динамическое — с умным, и это касается всех тех начал, которые можно было бы пожелать наглядно представить при посредстве чего-то иного. Например, пифагорейцы ведут речь о монаде, диаде и триаде, Платон — о пределе, беспредельном и смешанном, мы сами — чуть выше — о едином, многом и объединенном, а божественные оракулы — о наличном бытии, силе и энергии312. Очевидно, что отца они называют наличным бытием, а силе другого имени не дают. Если отец — это наличное бытие, а сила — среднее, то почему бы третьему не быть энергией и не иметь соответствующего имени? Действительно, великий Ямвлих подобные вопросы так и рассматривает313. Пожалуй, ум, получил свое имя от слова «мышление»314, а мышление подразумевает энергию, потому что, когда ум мыслит, он либо познает, либо возвращается к отцу, либо удаляется от него. Отец всего лишь наличествует, сила связана с возможностью наличествования, ум же выказывает энергию. Такое наглядное представление поможет сохранить полное единство трех начал, коль скоро они, будучи на самом деле тремя, тем не менее объединены между собой так же, как сила и энергия наличного бытия с самим наличным бытием. Ясно, что начала тесно связаны друг с другом и выступают как единая природа — наличествующая, могущая действовать и действующая самостоятельно, то есть предстающая как единая в трех формах.
1.9.2. Тождество наличного бытия и сущности
Так нужно ли вообще мыслить начала описанным образом? Или же следует делать это на основании лишь третьего своеобразия, полагая простую сущность третьим, которое и есть объединенное? Однако разве могли бы мы утверждать, что отец получает свое описание на основании сущности, если бы на самом деле сущность и наличное бытие были одним и тем же? Впрочем, говорят315, что они не тождественны, и имя «наличное бытие» применяется к богам, а «сущность» — к тому, что зависит от них316, ибо именно такое разделение, как правило, и проводят философы. Однако если бы это было верным, то среди богов сущее еще не было бы отделено от единого и объединенное не было бы сущим. Следовательно, единое не будет отцом. Пожалуй, последний будет выступать в качестве простого единого, а объединенное окажется простым сущим в ином смысле, как уже было много раз сказано по поводу каждого из этих двух317. Так можно было бы, пожалуй, говорить, если бы сущность и наличное бытие на самом деле как-то различались между собой. Однако я, со своей стороны, такого различия не вижу. Ведь слова «быть» и «наличествовать» мы применяем в одном и том же смысле, несмотря на то что иногда говорим о наличествовании бытия, так как подобное выражение распространено у древних авторов. Если причина здесь в том, что бытие должно предшествовать всему остальному, то ведь это относится, например, и к возможности, действительности, благорасположению, благополучию и так далее, ибо среди родов сущего собственно сущее предшествует всему остальному. Следовательно, если бытие властвует по данной причине, пусть даже совершая это под влиянием чего-то (ибо мы мыслим сущее вслед за единым), то и тогда наличествование и бытие будут тождественны, с тем лишь уточнением, что бытие выступает здесь как предшествующее другому, а когда оно предоставляется этому самому другому, то называется также и наличествованием318. Итак, если сущность и наличное бытие — одно и то же, а простая сущность — третье, то какой смысл относить это имя к отцу?
Да разве отеческая идиома не подразумевает желания быть причиной бытия иного, а вовсе не существовать самой, поскольку она именно отеческая? Таким образом, первый и простой отец, который не является чем-то другим, всегда следующим за ним, но есть всего лишь отец, сам по себе, пожалуй, существовать не мог бы — напротив, он есть причина бытия для другого и, разумеется, для первого и простого сущего, так же как и для такого, которое идет впереди всего; значит, отец предшествует всякому наличному бытию и сущности. Точно в таком же положении находится и отеческая сила: поскольку она несет в себе сущность, она идет впереди нее. Далее, третьим была отеческая энергия; следовательно, и эта энергия предшествует сущности, поскольку она также выступает как несущая в себе последнюю. Стало быть, объединенное — это не простая сущность, коль скоро оно оказывается отеческой энергией, рождающей сущие вещи, а энергия выступает как спутник предмета воздействия319. И отеческая энергия, в таком случае примыкающая к единому, оказывается также отеческим объединенным, называющимся так в смысле возвращения к тому самому единому. Однако есть и та энергия, которая соединяет обособляющееся и рождающееся в нем, и при этом, как было сказано выше, впереди определенной сущности идет простая сущность. Необходимо говорить, что третье начало аналогично первой энергии, поскольку она, вобрав в себя действие, способность, отеческую идиому и порождающую силу, выступает как простая сущность, ибо мы ведем речь о действующем и способном действовать как о сущности320, и, разумеется, прежде всего оно полагает за основу самое себя, так что выступает как сущность сама по себе, а по отношению к отцу речь о нем идет как об отеческой энергии.
Скорее всего, самое правильное — это взглянуть на соответствующие предметы иначе. Третье начало есть сущность и наличное бытие уже в действительности и в качестве энергии, а второе — еще в возможности, и именно это позволяет говорить о способности. В самом деле, то, что пребывает среди низшего в худшем качестве, там воспринимается как лучшее; следовательно, при этом бытие в возможности соотносится с бытием в действительности, а отец в возможности вовсе не существует321,— напротив, он как бы похитил самого себя у той возможности, которая имеет отношение к имеющейся, вероятно, в виду сущности, поскольку и среди здешних предметов единое, связанное с материей и выступающее как худшее, потусторонне бытию в возможности, ибо последнее уже заранее определено своей готовностью воспринять эйдос.
1.9.3. Различие наличного бытия и сущности
Пожалуй, более естественно то суждение, что наличное бытие обозначает лишь ипостась, подобно тому как сила — только возможность, а энергия — действительность, сущность же выступает как нечто общее и вобравшее в себя все эти три момента. Потому-то мы и говорим, что обладающее ипостасью не имеет никакой силы, а владеющее ею не является действующим или существующим или же существует напрасно. И вновь мы утверждаем: ничто не существует напрасно.
На самом деле в третьем сошлись все эти три вещи, во втором — только две, в первом же, в согласии с истиной, имеется только единое, и по этой причине оно оказывается всего лишь наличествованием и ипостасью, причем как бы неспособными к действию и бездействующими, если позволено так выразиться, и лишь воображаемыми тем, что лучше, нежели сила и энергия. Второе начало есть наличествование и сила вместе взятые, однако оно никак не действует, существуя прежде энергии и предоставляя всему именно это предшествующее энергии, подобно тому как первое начало предоставляет то, что идет впереди силы. Третье же, сущность, присоединив к себе действие, оказалось наличествующей, могущей действовать и действующей природой322. Следовательно, в данном случае наличное бытие будет отличаться от сущности так, как всего лишь бытие в самом себе от того, которое одновременно очевидно и для другого. В самом деле, наличное бытие — это стихия сущности, выделенная ради наглядного представления наипростейшего начала, и мы могли бы понять соответствующие высказывания.
121. Я полагаю, что обсуждаемое различается прежде всего в описанном смысле. Наличное бытие, что подразумевает само его имя, указывает на первое начало каждой ипостаси — как бы на фундамент, или на основание, изначально предполагаемое для всей постройки в целом323. Потому именно тот, кто дал ему название, и поставил впереди этого имени соответствующую приставку (ύπο-), желая дать толкование изначально положенного в основу начала для тех, кто будет вести речь о том, каким оно является; это — предшествующая всему простота, в дополнение к которой и возникает любая сложность. Таково, без сомнения, само потустороннее всему и изначально положенное в основу единое, которое выступает как причина всякой сущности, но само еще сущностью не является, ибо каждая сущность оказывается составной либо как единство, либо как слияние, либо как-то иначе, а что касается высшего единого, то оно всего лишь единое. Если впоследствии будет осуществляться некое сложение, то единому и простому необходимо изначально безыскусно лежать в его основе и существовать заранее, поскольку без него ничто другое не сможет обрести ипостась; таким образом, единое первой гипотезы есть наличное бытие всякой сущности. И если бы прежде нее предполагалась бы ее собственная простота, то она была бы производной от сущности324, так что наличное бытие оказалось бы отеческим во всех отношениях.
Следовательно, единое, наличное бытие и отец сводятся у нас к одному и тому же; на основании первой гипотезы и наличного бытия в дополнение к ним возникает вторая гипотеза, предполагающая как бы множество и протяженность высшего единого, стремящегося быть всем, предшествующим всему; соответствующее множество мы по аналогии называем силой, поскольку именно сила оказывается напряжением сущности. На ее основе на свет появляется третье начало, похоже наиболее законченного и всесовершенного вида, как бы разделившее <единое> натрое и соединившее вместо наличного бытия в сущности. Потому отеческий ум похож на собственного отца и возвращается к нему, объединенное — на единое, а сущность — на наличное бытие. Впрочем, сущее и другое, промежуточное — сила, вовсе не тождественны, поскольку сила выходит за пределы отеческой простоты и тем самым соединяется с умом, вовсе не будучи при этом очерченной в собственных пределах в единстве, но желая быть лишь растеканием и беспредельностью единого. По этой самой причине отцу, как единому, пребывающему в покое, сопутствует текучее единое; вследствие этого второе начало — это не объединенное, а пока еще единое, пусть даже на самом деле и растекающееся в виде хаоса. Итак, относительно того, чем отличается наличное бытие от сущности, пусть будет сказано именно это.
1.9.4. Заключение относительно начал и чинов
Ясно, что обособляющаяся от сущности генада во всех отношениях аналогична наличному бытию тогда, когда и оно будет обособляться от нее. В самом деле, если единое есть простое наличное бытие, то объединенное выступает как простая сущность. Если же наличным бытием оказывается единое, противоположное сущему,— поскольку одно зависит от другого в силу самой инаковости325,— то и сущее будет иметься вследствие того, что эта самая сущность соотнесена с наличным бытием, несмотря на то что последнее названное выступает как простота. Простое же единое есть всего лишь наличное бытие, и то же самое касается простого многого; при этом первая сила оказывается не чем иным, как многим. Таково и объединенное, являющееся смесью единого и простого многого, и потому само сущее в качестве простого объединенного именуется простым сущим, и то, что предмет этого суждения, который оказывается единым, обладающим свойствами, но при этом собственно единым не является, повсеместен, Платон показывает в «Софисте»326. Таким образом, единое, по справедливости, есть отец триады, поскольку он предшествует сущему и порождает его, сила отца — многое, так как последнее есть напряжение единого при рождении сущего, отеческий же ум — объединенное и сущее, рассматриваемое в его возвращении к отеческому единому, причем, конечно, не при познавательном, ибо там знание еще не выделилось, и не при жизненном, поскольку среди этих вещей жизнь еще не заняла обособленного положения. Следовательно, <соответствующее> возвращение не является и сущностным, так как сущность противостоит перечисленному вслед за объединенным; сущностно то возвращение, которое выступает как наивысшее из всех, и то, которое устремлено не к сущности, а к простому единому. И, поскольку последнее предшествует всему, такое возвращение также превосходит все, оказываясь по этой причине простым, а не каким-то определенным, например познавательным, связанным с предметом познания, или же вожделеющим, прикованным к некоему предмету влечения (оно-то скорее всего и оказывается жизненным327); не похоже оно и на возвращение объединенного к сущему, поскольку и такое возвращение является определенным и направленным на что-то определенное. Напротив, наипростейшее из всех возвращение к наипростейшему из всего — объединенного к единому и первого к первому — хотя и предполагает некую раздельность, но более всего — неделимое превосходство, поскольку оказывается скорее единством, нежели возвращением. Впрочем, аналогия будет залогом того, что это все-таки возвращение, и то, что возникает в согласии с ним, будет называться умом, поскольку возвращение есть собственный признак ума. Если же, как было сказано выше, с умом связано раз деленное, то и в этом случае умом будет объединенное, и он, что бы ни говорили, окажется третьим после отца; при посредстве аналогии и наглядного представления в этом случае будет обсуждаться сверхъестественное величие. Стало быть, пусть именно так и будет сказано в общем.
122. Что же касается частного рассмотрения, то необходимо вести речь о таком делении объединенного натрое, при котором его высший чин во всех отношениях пребывает в нерасторжимости, средний уже каким-то образом выступает в качестве того же самого, но разделяющегося, а о низшем чине разделяющегося следует говорить как о том раздельном, которое связано с объединенным. В самом деле, Платон, разделив его на единое и сущее, тем не менее ведет речь о составляющемся из того и другого; при этом промежуточное он представил как Целое, состоящее из частей — единого и сущего328. Низшее оказывается собственным признаком разделяющегося, высшее же — это во всех отношениях единое сущее, как и единое, принадлежащее сущему, и сущее, принадлежащее единому. И если бы кто-нибудь говорил об этом, то правильно ли утверждение, что высшее есть сущее, подчиняющееся единому, а низшее, напротив, единое, подчиняющееся сущему329, в среднем же чине оба они занимают равное положение? Скорее всего, опять-таки согласно Платону, одно — это единое сущее, другое — целое и части, а третье — беспредельное множество330; последнее аналогично уму как уже разделенное множество, промежуточное — как разделяющееся, а первое — как объединенное. Именно потому высшее есть всего лишь единое сущее, промежуточное уже полагает начало некой разобщенности, а третье разделено в виде множества; как мы говорим, наподобие того, как ум разделен на виды, оно превратилось во многое, о котором мы ведем речь как о предшествующем всякому числу, отчего оно и оказывается беспредельным множеством, поскольку по своей природе последнее неисчислимо и предшествует всякой определенности в виде числа331. Ведь число не допускает беспредельности, по мнению даже тех авторов, которые говорят о ней332, напротив, оно оказывается множеством, поскольку высшее множество было беспредельным — материей числа, нуждающейся в численном пределе, а, вернее, даже и не материей, так же как и не нуждающейся в пределе, но чем-то потусторонним ипостаси всех чисел.
Таким образом, данное многое есть многое, связанное с объединенным единым, поскольку то многое, которое предшествует объединенному, соответствует второму началу, каковое, как мы говорили, является простым многим; единому соответствует едино-многое, а рассматриваемое здесь многое — объединенно-многое, и впереди него в средоточии умопостигаемого располагается вовсе не многое, так же как и не беспредельное множество, а части и целое, то есть многое, еще пребывающее в едином и лишь начинающее отделяться от него. Потому-то вместо единого здесь присутствует целое, а вместо неделимого и слитного под действием собственного для него единого — части. После того как они полностью разделяются благодаря столь великому и таковому именно делению, которое по природе свойственно объединенному,— при том, что появились вот такие по числу и именно таковые фрагменты,— в нем непосредственно возникает многое.
Следовательно, все беспредельное множество будет аналогично уму, а то же самое беспредельное множество как совокупное (почему именно умопостигаемое и воспевали как связанное со всем умопостигаемым) — существующим в уме видам, промежуточное — среднему чину, получившему по жребию то же самое имя во втором (вслед за умопостигаемым) устроении, высшее же — составленному и слитому из стихий, при том, что оно, конечно же, оказывается объединенным, соотносящимся со всем объединенным космосом.
Кроме того, в третьем, умном, устроении нерасчлененный и совокупный ум на вершине объединенного оказывается Единожды Потусторонним333 и уподобляется самому совершенно объединенному, обо-юдозримая же Геката, проявляющая себя и как целая и как многочастная, похожа на средний чин умопостигаемого334. Тем же, чем в данном устроении оказывается Дважды Потусторонний — ум, «блистающий умными членениями»335, там выступает умопостигаемый и объединенный ум, если позволено так выразиться, также блистающий, но умопостигаемыми членениями.
Однако ведь если в объединенном присутствуют именно такие различия, их предвосхищения, первые причины или то, что можно было бы выделить еще (ибо выше об этом было сказано значительно больше, причем объединенное выступало как отеческий ум, который, с одной стороны, оказывался единым целым, а с другой — разделенным натрое), то ясно, каким образом, в согласии с тем же самым рассуждением, мы одновременно разделяем совершенную силу на три силы, а единого отца — на трех отцов. Действительно, один — это отец объединенного в объединенном уме, другой — того, которое рассматривается как целое и части, а третий — того, каковое воспринимается в качестве беспредельного множества; потому-то последний ум в отеческой триаде и был назван отеческим, промежуточный — силой, а первый — отцом отцов. Точно так же и сила будет разделена натрое и соответствующие три силы будут соприкасаться с тремя с каждой стороны — я говорю об отцах и отеческих умах. В самом деле, силы обоюдозримы и соразмерны с тем и другим распадением; и тем не менее в триаде сил первая по отношению к остальным обладает отеческим достоинством, промежуточная — это сила сил, а третья — ум первой силы. Ибо, в свою очередь, в объединенной умной триаде будут действовать определения умопостигаемого устроения: первый ум окажется отцом умов, промежуточный — силой, а третий — объединенным умом, как бы принадлежащим объединенному отцу.
2. Теологии эллинов
123. Пусть же того, что сейчас было сказано относительно халдейских триад, будет пока достаточно, хотя мы, потратив много сил, и не выведали никакой частицы истины, сообщенной оракулами относительно них, поскольку момент для подобного исследования еще не был подходящим. Коль скоро мы вспомнили о них с целью приблизиться к умопостигаемому и очистить наши мысли336, давайте сейчас расскажем и о касающихся умопостигаемого устроения учениях других теологов, так как и от них мы можем узнать что-то, в еще большей мере священное и, возможно, величайшее, относительно того самого превосходящего единства.
2.1. Орфические «Эпические песни»
Итак, в известных орфических «Эпических песнях»337, разумеется, присутствует некая теология, посвященная умопостигаемому, которую толкуют философы338. С единым началом всего они соотносят Хроноса, с двумя — Эфир и Хаос, а с простым сущим — яйцо; эту триаду они считают первой. Ко второй они относят либо плод и яйцо, несущее в себе бога, либо сияющий хитон, либо облако, поскольку именно из чего-то такого и выскочил Фанет339; подобного разногласия во мнениях они придерживались в своих философских учениях относительно среднего чина <умопостигаемого>. Каково бы ни было последнее, например, выступало, с одной стороны, как ум, а с другой — как отец и сила, все равно они к этому примысливают еще что-то, не имеющее никакого отношения к Орфею. А в третьей триаде <в качестве ума> у них присутствует Мудрый, как сила — Эрикипей и сам Фанет как отец340. Самое лучшее — это понимать среднюю триаду как бога, имеющего три формы, который еще заключен в яйце в виде зародыша. В самом деле, среднее всегда предстает как составленное из крайнего, а значит, оно — одновременно и яйцо и бог в трех формах. Ты видишь, что яйцо есть объединенное, трехформный или, вернее, многоформный бог — это разделенное в умопостигаемом, а промежуточное в качестве яйца — пока еще объединенное, в качестве бога — разделенное, в качестве же целого — так сказать, разделяющееся. Вот какова обычно признаваемая таковой орфическая теология.
2.2. Орфическая теология в изложении Гиеронима и Гелланика
123а. Теология, принадлежащая Гиерониму и Гелланику341,— если это, конечно, не один и тот же человек,— гласит следующее. Сперва была вода и материя, из которой восстала земля. Высказывая прежде всего предположение об этих двух началах — воде и земле342, причем о последней как по природе легко рассеиваемой, а о первой как о сплачивающей и связующей ее,— эта теология оставляет без внимания предшествующее им единое неизреченное начало; само то, что она никак не говорит об этом начале, указывает на его таинственную природу. Третье начало, следующее за двумя названными, родилось от них — я имею в виду воду и землю,— и это дракон, имеющий головы быка и льва343, приросшие посередине божественного лика, а также крылья на плечах; именуется же он «Неувядаемый Хронос»344 и, что то же самое, «Геракл»345. С ним сожительствует Ананке346 или, что то же самое, Природа, и двухтелесная347 Адрастея, простирающаяся через весь космос и прикасающаяся к его пределам348. Я полагаю, что здесь речь идет о третьем начале, выступающем в качестве сущности — с той лишь поправкой, что оно было признано мужеженским с целью наглядного представления порождающей причины всего349. Мне кажется, что теология, представленная в «Эпических песнях», оставляя без внимания два первых начала наряду с единым, которое предшествует им и оказывается молчаливо опущенным, сосредоточивается на том начале, которое происходит от третьего, следующего за этими двумя, по той причине, что оно первым обладает некой изре-ченностью и воспринимаемостью для человеческих чувств. Ведь в рамках данной теологии тот самый многопочитаемый Неувядаемый Хронос оказывается отцом Эфира и Хаоса. Без сомнения, <и в теологии, излагаемой Гиеронимом и Геллаником,> Хронос-дракон рождается на свет тройным рождением; триждырожденный Эфир350 в ней называется текучим (νοτερός), в то время как Хаос — беспредельным, третий же, следующий за ними, Эреб — туманным351; об этой самой второй триаде сообщается как о динамической, тогда как первая выступает в качестве отеческой. Потому-то третье в ней — Эреб — и оказывается туманным, отеческое и высшее — Эфир — выступает не просто как таковое, а как текучее, среднее же — Хаос — как беспредельное. Как гласит эта теология, Хронос отложил среди них яйцо, и в том же самом предании речь идет о потомке Хроноса, родившемся среди них, потому что и от них на свет появилась третья умопостигаемая триада. Что же это за триада? Яйцо, а затем диада заключенных в нем природ — мужской и женской — и множество находящихся среди них разнообразных семян; третий же, возникающий благодаря им, бог двухтелесен, имеет на плечах золотые крылья, на боках — приросшие головы быков, а на голове — чудовищного дракона, принимающего вид самых разных зверей352. Именно его в этой триаде необходимо полагать умом, промежуточные роды — как многие, так и Два названных — силой, а само яйцо — отеческим началом третьей триады. Третий бог оказывается порождением этой третьей триады, и рассматриваемая теология воспевает его уже как Первородного и называет Зевсом353, устроителем как всего вообще354, так и всеобщего космоса, по каковой причине он также именуется Паном355. Вот что гласит данная генеалогия относительно умопостигаемых начал.
2.3. Теологии Орфея, Гомера, Гесиода, Акусилая, Эпименида и Ферекида Сиросского в изложении Евдема
124. Теология, написанная перипатетиком Евдемом и представленная как Орфеева356, обходит молчанием все умопостигаемое как совершенно неизреченное и не познаваемое тем путем, который связан с подробным изложением и рассказом; она начинается с Ночи, на которой останавливается уже Гомер, хотя последний и не создал связной генеалогии. Никак нельзя одобрить то, что Евдем говорит, будто <изложение Гомера начинается с> Океана и Тефии357. Ведь он, похоже, знает, что Ночь у него — величайший бог, поскольку даже Зевс почитает ее:
Он ведь трепещет пред Ночью могучей, страшась оскорбленья338.
Впрочем, пусть сам Гомер и начинает с Ночи.
Гесиод, рассказывая о том, что первым появился Хаос, как я полагаю, назвал так непостижимую и полностью объединенную природу умопостигаемого; Гею359 он первой выводит из него как некое начало всего племени богов360. Следовательно, даже если он не считает Хаос вторым среди двух начал, то уж Гея-το, Тартар и Эрос оказываются триадическим умопостигаемым, при том, что Эрос занимает третье место, поскольку рассматривается в возвращении361 (в самом деле, такие имена им дает также Орфей в «Эпических песнях»), Гея — первое, поскольку она прочно покоится, занимая устойчивое и сущностное положение362, а Тартар — промежуточное, так как он уже некоторым образом движется к раздельности.
Акусилай363, мне кажется, считает первым началом Хаос, поскольку он совершенно непознаваем, а двумя следующими за единым — Эреба в качестве мужского начала, а Ночь в качестве женского; последнее начало замещает у него беспредельность, а первое — предел. От их соития, как он говорит, появляются Эфир, Эрос и Мудрый — и это три умопостигаемые ипостаси; первым он ставит Эфир, промежуточным — в силу его природной срединности — Эроса, а третьим — Мудрого в качестве уже самого досточтимого ума. Согласно рассказу Евдема, от них он производит на свет множество всех остальных богов.
Эпименид364 предполагает наличие двух первых начал — Аэра365 и Ночи, причем, конечно же, почитает молчанием то единое начало, которое идет впереди этих двух. От них в качестве, как я полагаю, третьего начала, смешанного и слитого из этих двух, он произвел на свет Тартара; кроме того, он назвал и двух титанов, причем именно как средний чин умопостигаемого, поскольку соотнес с ними представление о верхнем и нижнем пределах. При их соитии появляется яйцо — то самое подлинное умопостигаемое живое существо, от которого на свет в свои черед родилось другое племя.
124а. Ферекид Сиросский366 говорит о трех вечно существующих началах — Занте367, Хроносе и Хтонии, причем я утверждаю, что одно у него идет впереди двух, а два следуют за одним368; при этом Хронос творит из своего семени огонь, дух и воду, то есть, как мне кажется, тройственную природу умопостигаемого, а от них в пяти глубинах образуется другое, многочисленное племя разделенных богов, называемое пятиглубинным или, что, вероятно, то же самое, пятикосмическим369. Впрочем, о них мы поговорим в более подходящее время. Вот каковы и сколь велики рассмотренные здесь нами гипотезы, поведанные в эллинских мифах; однако имеется много и других.
3. Восточные теологии
3.1. Теологии вавилонян, магов и сидонцев в изложении Евдема
125. Среди варваров вавилоняне, похоже, обходят молчанием единое начало всего, а двумя считают Тауте и Апасона, причем последнего представляют как мужа первой, а ее именуют матерью богов; от них родился единородный сын Моимис — как я полагаю, сам умопостигаемый космос, появляющийся на свет от двух начал, а также и иное потомство — Даха и Дах и третье — Киссара и Ассор, от которых родились трое — Анос, Иллинос и Аос; от Аоса и Давки родился сын Белое, который, как говорят, и есть демиург370.
125а. Среди магов же и всего Ариева рода371, как об этом пишет Евдем, одни называют все умопостигаемое и объединенное Топосом, а другие — Хроносом372; от него отделились благой бог и дурной демон или, как говорят некоторые, идущие впереди них свет и тьма. И эти люди вслед за неделимой природой вычленяют два разделяющихся ряда лучших; один из них возглавляет Ормузд, а другой — Ариман373.
125б. Сидонцы374, судя по описанию того же самого автора, впереди всего ставят Хроноса, Потоса и Омихлу375. От соития двух последних как двух начал родились Аэр и Аура376. Аэра они представляют как чистоту умопостигаемого, а Ауру — как движущийся от самого умопостигаемого жизненный первообраз (προτύπωμα). Затем от них обоих на свет — в качестве, как я полагаю, умопостигаемого Ума — появилось яйцо377.
Теологию финикийцев мы обнаруживаем уже за пределами изложения Евдема, в мифологии Моха378. Первый Эфир и Аэр оказываются здесь двумя теми же самыми началами, от которых рождается Улом279, умопостигаемый бог, как я полагаю, соответствующий высшему чину умопостигаемого. От него, соединившегося с самим собой, как говорят, родился Хусор, первый Отверзитель (άνοιγέα)380, а затем яйцо, которым, мне кажется, они называют умопостигаемый ум, в то время как отверзителем Хусором — умопостигаемую силу, первой разделившую нерасторжимую природу, если, конечно, он при этом не следует за двумя началами, среди которых высшее — это единый Анемос381, а промежуточное — два ветра: Липс и Нот382, ибо они в каком-то смысле располагают их прежде Улома. Последний, пожалуй, мог бы быть самим умопостигаемым умом, отверзитель Хусор — первым чином, следующим за умопостигаемым, а яйцо — небом. Ведь говорят, что от него, рассеченного надвое, в качестве этих двух частей и появились Уран и Гея383.
3.2. Теология египтян в изложении Асклепиада и Гераиска
125в. Относительно египтян Евдем подробно ничего не рассказывает, однако египетские философы, живущие в наше время, поведали тайную истину, содержащуюся в их учениях, найдя ее, разумеется, в каких-то египетских сочинениях384, поскольку, по их мнению, воспеваемое единое начало всего — непознаваемая тьма, трижды провозглашенная в таковом качестве385, а два начала — это, согласно Гераиску, Вода и Песок, а согласно Асклепиаду386, который был старше того,— Песок и Вода, от которых и вслед за которыми на свет появился первый Кмефис387, затем от него — второй, а от второго — третий; они образовали целостное умопостигаемое устроение. Так говорит Асклепиад. Более же молодой Гераиск утверждает, что Кмефис, названный третьим по имени отца и деда, является Солнцем и, конечно же, самим умопостигаемым умом.
Впрочем, в данном вопросе нужно стремиться к точности. Относительно египтян следует иметь в виду, что они разделяют многими способами то, что установилось в единстве, поскольку расчленяли умопостигаемое на своеобразия многих богов, о чем желающие могут узнать из их собственных сочинений,— я говорю об описании египетского учения в целом, выполненном Гераиском и предназначенном для философа Прокла, а также о начатой Асклепиадом книге, в которой он соотносит учение египтян с представлениями других теологов388.
Третья часть
СОПРИЧАСТНОСТЬ
1. Введение
126. Вслед за этим необходимо заняться сопричастностью первым началам и всему умопостигаемому, которое, как мы говорим, и есть объединенное. Так вот, участвует ли в них все последующее или не участвует? Или в каком-то отношении участвует, а в каком-то — нет?389 В самом деле, о том, что сущность двойственна и одна допускает участие в себе, а другая — нет и что в точно таком же положении находится жизнь, как и ум, было сказано и в достаточной мере обоснованно выше. Впрочем, и в отношении их необходимо еще исследовать, распространяется ли некая их ипостась и на атомы и имеет ли она отношение к возникающим и гибнущим вещам.
2. Определение понятия «сопричастность»
Так вот, прежде всего необходимо понять, что означает само слово «участвовать» и в каком смысле мы говорим о сопричастности. Похоже, что слово это указывает на обладание, причем следующее за другим и происходящее от другого390. При этом обладает вовсе не первое, а второе, к тому же еще оказывающееся другим, следующим за тем, что также пребывает чем-то иным, и чем оно не является: наблюдается участие в чем-то, а вовсе не служащее началом и прототипом наличное бытие. Таким образом, одним и тем же по своему виду оказывается, с одной стороны, самостоятельное бытие тем, что есть, и с другой — предоставление участия в себе тому другому, которое появляется на свет, в свою очередь, от другого391. Служащее предметом сопричастности двойственно, и одно есть то, что дарует ее, а другое — само даруемое, благодаря наличию которого дарующее и выступает как предоставляющее участие в себе. Действительно, благодаря чему-то даруемому — тому свету, который вкладывается Солнцем в наши глаза,— оно, находясь на небе, как бы допускает участие в себе; однако и даруемое выступает как позволяющее участвовать в себе, и мы говорим, что причастное участвует и в том и в другом: в одном — как принадлежащем Другому, следующем за другим и возникающем от иного, а в дру-
гом — как в дарующем другому собственное своеобразие, следующее за ним самим. Вот что нужно сказать по поводу этого имени.
3. Аргументы против существования сопричастности
126а. То, что среди существующих вещей имеется нечто подобное, и то, что иное участвует в ином, но как отдельное само по себе не установилось, получив свою устойчивость от другого,— и только в этом смысле говорится, что оно есть, как пытался это предполагать Протагор и как показал Ликофрон392,— покажет рассуждение, которое будет в достаточной мере обосновано393. Ведь чем еще могла бы быть, как станут говорить, красота как таковая? И что это за справедливость, которая оказывается в качестве таковой чем-то иным? Ни красоту нельзя назвать справедливостью, ни справедливость — красотой. Следовательно, что же это такое — бытие красоты? Действительно, это не прекрасное сущее, но то, что всего лишь прекрасно394. И справедливости также нет, ибо то, что есть, оказывается собственным признаком сущего; стало быть, нет вообще ничего, кроме сущего, и, значит, ничто иное по сравнению с обладающим ипостасью не обладает ею и ничто иное по сравнению с движущимся не движется. Таким образом, есть все, участвующее во всем, и для каждой вещи необходимо указывать на одно имя — на то, которое связано с его своеобразием: тем, кто говорит о чем-нибудь, нельзя соединять имена между собой, как вообще недопустимо вести речь о чем-нибудь, поскольку истине соответствует лишь то, что относится к одной природе. В самом деле, человек — это всего лишь человек, а вовсе не живое существо, не разумное и не смертное, ибо ничто из этого не есть то, чем оказывается человек.
Кроме того, как говорят, участвующее, которое выступает в качестве пребывающего, называется причастным другому. Если при этом сохраняет силу вышеприведенное рассуждение, то чем в дополнение к самому себе оно будет обладать по той причине, что приняло участие в ином?395Да и само то, в чем было принято участие, по своему собственному своеобразию остается в этом случае тем, чем было изначально, так что и оно должно получать то же самое имя, которое носило раньше.
В-третьих же, одно сосуществует с другим или в единстве, или в смешении, или же в соседстве. Значит, необходимо исследовать то, о какой сопричастности мы станем говорить в отношении этих сосуществующих вещей. В самом деле, она не связана с соседством, ибо предметы, находящиеся рядом, не испытывают никакого воздействия со стороны друг друга, а участие связано с неким претерпеванием. Нет ее и в случае единства, поскольку служащему предметом сопричастности и участвующему необходимо быть отделенными друг от друга, а единство делает две вещи одной и в ней участвующее и позволяющее участвовать в себе отнюдь не сохраняются. Однако также совершенно очевидно, что сопричастность отсутствует и в случае смешения, поскольку смесь образуют две вещи одного порядка — единое наличное бытие обеих стихий, а вовсе не то, что участвует, и то, в чем оно участвует. Поэтому никто не сможет сказать, что белое тело есть смешение белизны и тела, как это имеет место в случае тела, расчлененного по трем направлениям396. Действительно, участвующее всегда стремится к подчинению тому, в чем оно участвует, а последнее — к тому, чтобы быть словно бы заложенным в него как в положенное в основу.
Так вот, именно это и тому подобное, пожалуй, и скажут те, кто отвергает сопричастность и утверждает, будто что-то одно никак не может участвовать в чем-то другом. Впрочем, последовательное рассуждение, если оно представит все оторванным друг от друга и не участвующим сообща ни в каком едином,— в том числе и в едином самом по себе, коль скоро то же самое рассуждение будет иметь силу и применительно к нему,— также отвергнет существование множества, по общему согласию, имеющихся эйдосов, например тождества, подобия, равенства, единства вообще и, конечно, самой целостности, так как каждой из частей необходимо участвовать в единой целостности. Отвергнет оно и любое знание, поскольку не позволит говорящим или мыслящим определить одно на основании другого; в таком случае данное рассуждение будет опровергать самое себя397. Ведь ему невозможно будет говорить даже о том, что предметы обособлены друг от друга, так как ясно, что отделенность всех вещей друг от друга при этом тождественна сопричастности398.
4. Аргументы в пользу существования сопричастности
Конечно же, тем, кто рассматривает действительные предметы, вполне очевидно, что одни участвуют в других, как и то, какие именно предметы являются ими. Ведь материальные эйдосы представляются находящимися в таком положении, что стихии в них участвуют друг в Друге, и те предметы, которые состоят из стихий, тоже причастны стихиям, как и друг другу. В самом деле, наше тело нагревается и охлаждается и к тому же питается растениями и другими продуктами. И разве ощущения не обретают свою форму благодаря ощущаемым предметам? Разве вожделение и гнев не изменяются в соотнесенности с худшим и с лучшим? Разве разумная душа не воспитывается благодаря воздействию со стороны воспитателя? Разве не становится она, когда занимается философией, пифагорейской или платонической? Или вот еще суждение Сократа: откуда мог бы один человек узнать о страдании другого, если бы <эти два человека> не имели между собой ничего общего (при этом ясно, что общее всегда происходит от единого)?399 Что же, разве худшее со всей очевидностию не участвует в лучшем, например как материя в эйдосах? Разве дерево не приобрело определенный вид, не было распилено пилой и в результате не приняло форму трона, а тело не живет и не движется по внутренним причинам, подобно тому как неодушевленное перемещается по внешним? Разве вот этот воздух и вся подлунная не освещается небесным светом? Разве нематериальное в своей неубывающей силе не управляет всем материальным?
А еще логичнее говорить так: и человек и конь — это эйдос, живое существо, сущее и единое и все названное оказывается общим во всем — за исключением собственного своеобразия; есть также то, что будет общим даже для своеобразия — это как бы его стихии, а не то, что существует самостоятельно. Ведь с тем, что не принадлежит самому себе, не выступает в качестве самого себя и не является прежде всего собой, связана сопричастность, появившаяся от одного в другом, как мы и говорили. Однако в этих вопросах, пожалуй, существует полное согласие.
126б. Почему же мы будем отвергать противоположные суждения? Разве нет необходимости утверждать, что по своей природе эйдосы не существуют отдельно друг от друга — каждый благодаря лишь самому себе? Ведь и движению необходимо покоиться, а покою двигаться, в противном же случае движение отнюдь не будет пребывать в том, в чем оно имеется, и покой не будет действовать, поскольку он существует400. Точно так же красота и справедливость взаимно участвуют друг в друге: красота причастна справедливости, с тем чтобы действовать собственным действием и не сливаться со всем остальным, а справедливость участвует в красоте для того, чтобы быть желанной, любимой и восхваляемой401. Мы в состоянии привести множество подобных примеров. Так вот, эйдосам, как я и говорил, необходимо участвовать друг в друге, а придумываемые в дополнение к ним особенности, о которых я говорю как о самостоятельно не существующих, создают нам апории, поскольку в согласии с истиной вовсе не...402